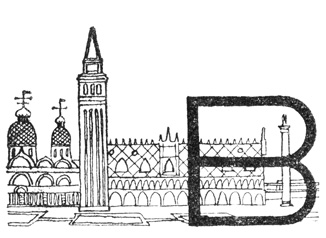
В средних числах июля 1844 года путешественники прибыли в приморский пригород Генуи - Альбаро и поселились на вилле ди Баньярелло, которую снял для них Ангус Флетчер, уплатив раза в четыре больше, чем следовало. Флетчеру они отдали первый этаж, а сами заняли остальную часть дома. Дом был просторный, пустой, неудобный и горячо любимый жуками, комарами, блохами, мухами, скорпионами, ящерицами, лягушками, крысами и великим множеством кошек. Зато из окон открывался божественный вид. Диккенс привез с собою рекомендательные письма ко многим именитым генуэзцам, но не воспользовался ими, а вскоре именитые жители Генуи и сами пожаловали к нему и в их числе - английский и французский консулы. "Я очень часто прибегаю к своему старому верному приему: скрываюсь от гостей и предоставляю Кэт принимать их", - рассказывал Диккенс. Он купался, обследовал окрестности, гулял по холмам, забирался в глухие уголки Генуи, и у него создалось впечатление, что всю страну заполонили священники, причем самого гнусного вида. (То же самое наблюдали в романских стенах и другие англичане - как тогда, так и шестьдесят лет спустя.)
И в добродетели крупица зла бывает,
Лишь следует получше присмотреться... -
как мог бы сказать по этому поводу Шекспир. Что касается Диккенса, то ему были в равной степени отвратительны как зловещие отцы католической церкви, так и велеречивые пастыри его родной Англии. Не в пример прочим английским путешественникам он с усердием принялся изучать язык чужой страны: занимался каждый день, нашел себе итальянца, который приходил с ним разговаривать, и в конце концов стал чувствовать себя "на улицах храбрым, как лев. Удивительно, с какой наглостью начинаешь изъясняться, зная, что другого выхода нет". И хотя все здесь глаз ласкало - и мерзок был лишь человек*, - климат на первых порах тоже не оправдал его ожиданий. Стояла такая гнетущая жара, что он чувствовал непреодолимое желание "свалиться где-нибудь - все равно где, - да так и лежать". Небо здесь было не более лазурным, чем над Хемпстед-Хит, но Северное море все-таки значительно уступало по синеве Средиземному. Все прочее, начиная от насекомых и кончая людьми, имело здесь по сравнению с Англией гораздо более внушительный вид. Кузнечики были, очевидно, из Страны великанов, судя по тому, как громко они стрекотали. Если двое генуэзцев останавливаются посреди улицы, чтобы "потолковать по-дружески, кажется, что они вот-вот кинутся друг на друга с ножами". Даже в прачечной к делу относились с южной страстью: "Через шесть недель после первого знакомства с прачечной мои белые брюки могли бы отлично сойти за рыбацкую сеть".
* (И хотя все здесь глаз ласкало - и мерзок был лишь человек... Строки из "Гимнов с Ледяных холмов Гренландии" английского поэта Б. Р. Хегера (1783 - 1826).)
Неизменная любознательность и живой темперамент не давали Диккенсу усидеть на месте, и по крайней мере раза два он поплатился за это. На званом обеде у французского генерального консула какой-то итальянский маркиз стал читать свои стихи в его честь. В стихах торжественным слогом, столь милым сердцу патриота, говорилось о взятии Танжера Жуанвилем, и Диккенсу стоило немалого труда, сдерживая улыбку и сохраняя на лице выражение самого крайнего восторга, внимательно смотреть в рот чтецу, как будто стараясь не пропустить ни слова. Усилия его, видимо, увенчались полным успехом: маркиз пригласил его к себе на пышный вечер. Диккенс пришел. Сначала все шло сносно: мороженое, танцы... Но когда стало ясно, что в ближайшие четыре часа, кроме танцев и мороженого, ждать нечего, Диккенс решил спастись бегством до полуночи, пока не закроются генуэзские ворота. Спускаясь под гору в темноте, он на бегу споткнулся о шест, перекинутый через улицу, и растянулся. Вскочив, весь белый от пыли, он ощупал себя, убедился, что костюм порван, но сам он, кажется, невредим, и успел добежать до ворот в самый последний момент. До дому он дошел пешком. Все бы ничего, но от сильного удара у него начался приступ той самой "нестерпимой и неописуемо мучительной боли в боку", от которой он страдал с детства.
А три недели спустя он перенес настоящее потрясение. Его брат Фредерик, приехавший к нему в гости, купаясь, попал в полосу сильного течения и, конечно, утонул бы, если бы не рыбачье суденышко, как раз в это время выходившее из гавани. Это происшествие разыгралось прямо на глазах у всей семьи: "За эти четыре-пять страшных минут мы пережили целую вечность ужаса и отчаяния".


В октябре Диккенсы приехали из Альбаро в Геную и поселились в Палаццо Пескьера (Дворце рыбных прудов), одном из красивейших итальянских дворцов с изумительным видом на город и гавань. Окруженный парком дворец, с огромным залом в пятьдесят футов высотой и фресками, написанными итальянским художником, тезкой Микеланджело, с фонтанами, террасами и благоухающими садами, очаровал Диккенса. Он был похож на "дворец из волшебной сказки", и Диккенс часто и подолгу простаивал в холле, любуясь видом, "как в каком-то счастливом сне". Платил он за дворец пять фунтов в неделю: оказалось, что в Италии можно жить по-царски на те деньги, которых едва хватило бы на жизнь бедному поэту в Англии. У Диккенсов появилась ложа в опере, завелись друзья и знакомые, погода тоже наладилась, и все-таки Диккенс никак не мог взяться за работу, скучая по Лондону и чувствуя себя, как рыба на песке: "Писал ли я вам, сколько у нас здесь фонтанов? Но что толку! Даже если бы из них струился нектар, они не понравились бы мне так, как наши, вест-миддлсекские, на Девоншир-Террас". Без лондонских улиц и лондонской толпы у него пропадало вдохновение. "Поставьте меня часов в восемь вечера на мосту Ватерлоо, дайте побродить, сколько мне вздумается, и я, как Вы знаете, вернусь домой, горя желанием работать и работать. А здесь все как-то не по мне. Не могу взяться за дело".
Прошло уже более года, как он задумал написать новую книгу, опять на рождественскую тему, "возвысить голос в защиту бедняков", но с тех пор, как он поселился в Италии, он еще не написал ни строчки. Что сказать - он знал, но как? Однажды он сидел за столом, пытаясь заставить себя работать, как вдруг раздался благовест. Забили, затрезвонили все генуэзские колокола, мешая ему сосредоточиться, наполняя бессильной яростью. Но вот перезвон затих, Диккенс успокоился, и в голове у него зазвучала фраза Фальстафа: "Да, приходилось нам слышать, как бьет полночь, мистер Пустозвон". И с этого момента он уже был целиком во власти своих "Колоколов". Вскоре в Генуе был устроен раут по случаю приезда губернатора. Диккенс попросил английского консула объяснить, что он не может прийти.
- А где же великий бард? - спросил губернатор. - Я хочу видеть великого барда.
- Великий бард работает, ваше превосходительство. Он пишет книгу и просит вас извинить его.
- Извинить? - воскликнул губернатор. - Такому занятию я не решился бы помешать ни за что на свете. Пожалуйста, передайте синьору Диккенсу, что, когда бы он ни решил почтить меня своим присутствием, мой дом для него открыт. Но только когда ему удобно, не иначе. И пусть никто из вас, джентльмены, не нарушает покой синьора Диккенса, пока не станет известно, что он свободен.
Вот хороший пример того, как правителям следует относиться к художникам.
Диккенса больше не беспокоили колокола: "Пусть теперь звонят себе, сколько им вздумается, во всех церквах и монастырях Генуи: я ничего не вижу, кроме старинной лондонской колокольни, куда я их перенес". "Все в порядке, - сообщил он Форстеру. - Одержим "Колоколами". Встаю в семь. Холодный душ, завтрак, и часов до трех работаю, работаю как безумный. В три обычно кончаю, если нет дождя... Из-за этой книги стал здесь, на чужбине, бледен как мел. Щеки, начинавшие уж было округляться, снова провалились, глаза стали огромными, волосы повисли безжизненными прядями, а в голове под этими прядями горячо и туманно. Перечтите сцену в конце третьей части. Я ни за что на свете не написал бы ее снова. Я пережил столько горя и волнений, как будто все это случилось наяву. Книга будила меня по ночам. Дописав ее вчера, я был вынужден запереться в доме, потому что мое лицо распухло, стало почти вдвое больше обычного, и я имел невообразимо нелепый вид... Пойду прогуляюсь как следует, чтобы голова стала ясной. Доработался: все плывет перед глазами. На сегодня достаточно". 4 ноября, проливая горькие слезы, он дописал "Колокола". "Сюда вросли, вплелись все мои страсти и привязанности, - говорил он. - Потрясающая книга! "Рождественская песнь" - ничто перед нею".
Его так волновала судьба "Колоколов", что он решил съездить в Лондон, держать корректуру, отобрать иллюстрации и прочесть повесть в тесном кругу друзей у Форстера. Перед отъездом он побывал в нескольких городах северной Италии: в Парме, Болонье и Вероне - и был "слегка обескуражен", увидев, что Мантуя - место изгнания Ромео - находится всего за двадцать миль от Вероны. Заехал он и в Венецию, которая поразила его больше любого города на свете: "Великолепие и красота Венеции не поддаются описанию. Такого города не увидит во сне курильщик опиума. Даже волшебные чары не в силах создать видение более пленительное... Ее нельзя видеть без слез... Прелесть ее невыразима. Никогда прежде не видел города, о котором страшно говорить. Я чувствую, что рассказать о Венеции невозможно". Кисть, перо, карандаш - все это могло дать лишь самое общее представление о невообразимо прекрасной действительности. Память о Венеции осталась с ним на всю жизнь. "Эти три дня были подобны сказкам "Тысячи и одной ночи", но только в тысячу и один раз необычайнее и фантастичнее". Жена и свояченица на несколько дней приехали к нему в Милан и вернулись в Геную. Диккенс переправился через Симплон и поехал через Страсбург и Париж в Лондон.
Сразу же по приезде он отправился на Ковент-гарден в кафе "Пьяцца" и "попал прямехонько в объятия" Маклиза и Форстера. Две из иллюстраций к его рождественскому рассказу - гравюры Ричарда Дойла и Джона Лича - ему не понравились. Он пригласил обоих художников позавтракать вместе с ним. "Пустил в ход то неотразимое обаяние, с которым ты хорошо знакома, - писал он жене, - и оба в отличнейшем расположении духа взялись сделать гравюры заново". Состоялось и чтение у Форстера. Пришли Карлейль, Маклиз, Стэнфилд, Макриди, Ламан Бленчард, Дуглас Джеролд и еще кое-кто. Рассказ имел успех, о чем Диккенс незамедлительно сообщил жене: "Если бы ты видела, как плакал вчера Макриди, как он рыдал, не стыдясь своих слез, ты почувствовала бы вместе со мною, что значит власть над людьми". Впоследствии это желание наслаждаться ощущением своей власти значительно сократило ему жизнь.
Вскоре после этого чтения Макриди приехал в Париж, чтобы играть там в шекспировских спектаклях, и Диккенс на обратном пути в Геную несколько дней провел вместе с другом в столице Франции. В день его отъезда Макриди написал в дневнике: "С нами обедал Диккенс. В половине шестого он уехал, так что это, очевидно, мой последний хороший день в Париже". Дело было в середине декабря, всю дорогу стоял лютый холод. Диккенс пишет, что в Марселе его вынули из кареты "совершенно окоченевшим и приняли за часть багажа. Но, не обнаружив на мне почтового адреса, решили осмотреть меня более тщательно и, наконец, заметили "признаки жизни", выражаясь языком газет. Потом на борту парохода меня одолел такой приступ морской болезни, что мне по-настоящему следовало бы тут же написать завещание - если бы у меня было что завещать. Правда, у меня был тазик, но с ним я в те минуты расстаться не мог".
Возвратившись в свой дворец, он снова захотел поближе познакомиться с Италией и в конце января 1845 года поехал вместе с женою на юг. Для Кэт эта поездка сложилась не особенно удачно: в Риме они встретили чету де ля Рю и дальше путешествовали вместе. С банкиром де ля Рю, швейцарцем по национальности, и с его женой англичанкой Диккенсы познакомились еще в Генуе. Обо всем остальном написал сам Диккенс двадцать пять лет спустя: "Я близко сошелся с ее мужем... Узнав, что она ужасно страдает от невралгии (о том, что у нее есть и другие болезни, я в то время не знал), я признался ему, что обладаю животным магнетизмом редкостной силы (в его эффективности при нервных расстройствах я уже имел возможность убедиться). Я сказал, что буду рад помочь ей. Ни одного из обычных явлений у нее не было, но через месяц она стала спать по ночам, хотя уже много лет не спала, и так поразительно изменилась, что даже ее мать была потрясена. Потом она мне призналась, что ее давно уже преследуют мириады кровавых видений, самых чудовищных, но теперь они все поблекли и опустили покрывала на лица. С тех пор она с мужем сопровождала меня во всех поездках по Италии. Я гипнотизировал ее ежедневно, иногда где-нибудь под оливой, иногда в винограднике, в экипаже, а то и в придорожной таверне в час полуденного зноя. Однажды ночью, в Риме, меня вызвал к ней ее муж. У нее был нервный припадок. Она лежала, свернувшись плотным клубком, и понять, где у нее голова, можно было, лишь проведя рукою по ее длинным волосам и нащупав их корни. Прежде такой припадок продолжался у нее по крайней мере часов тридцать. Это была страшная картина; я уж стал сомневаться, смогу ли ей помочь. Однако через полчаса она спала покойным и естественным сном, и на другое утро была совсем здорова. Когда я в тот раз уехал из Италии, ее видения исчезли. С течением времени они появились снова и с тех пор мучали ее всегда".
Миссис де ля Рю казалась Диккенсу "превосходнейшим и нежнейшим созданием", и нужно полагать, что так оно и было. К несчастью, всем женам органически противны самые лучшие человеческие качества женщин, вызывающих у их мужей сочувствие и интерес. В конце концов Кэт пришлось сознаться Чарльзу, что общество супругов де ля Рю для нее невыносимо. Да, эти дни, несомненно, были для Кэт тяжелым испытанием. Можно ли порицать женщину, которой больно видеть, как ее муж в три часа ночи пускает в ход магнетические флюиды, пытаясь придать естественное положение телу дамы в ночной рубашке? Пришлось Диккенсу "взять на себя тягостную миссию: сообщить чете де ля Рю о твоем душевном состоянии". Однако лет через девять, снова приехав в Геную и встретившись с супругами де ля Рю, он написал жене, что она поступает неправильно. Одним из качеств, отличающих его от всех прочих людей, писал он, является способность "неустанно стремиться к осуществлению идеи, целиком захватившей меня". Эта его особенность дала Кэт богатство и положение в обществе, но ею же объясняются и гипнотические сеансы с миссис де ля Рю. Он дал жене понять, что, вкушая прелести первого, она могла бы примириться и со вторым. Супруги де ля Рю шлют ей поклон, и ей следовало бы ответить тем же, ибо "по отношению к этим людям ты поступаешь нехорошо, нелюбезно, невеликодушно - и это недостойно тебя". Он ни о чем ее не просит. Пусть ее сердце подскажет ей, как уместно и справедливо поступить. Она должна решить сама и действовать по собственному усмотрению. Что ж, он был прав, утверждая, что не просит ее поступать так, как ему хочется. Письмо его звучит вовсе не как просьба - это приказание. Кэт безропотно повиновалась. Не прошло и трех месяцев с того дня, как он отправил свое назидательное послание, - и он уже передал мистеру де ля Рю поклон от своей жены, спрашивая, получила ли миссис де ля Рю ее письмо "с рецептами итальянской кухни".
В Генуе для Кэт сложилась тяжелая обстановка. Диккенс был недоволен еще и ее отношением к Сьюзен, дочери Макриди. По той же причине впала в немилость и Джорджина, ее сестра. Сьюзен Макриди приехала к ним в гости осенью 1844 года. Это была, судя по всему, глупая девчонка с удивительной способностью действовать окружающим на нервы. Кэт и Джорджина с трудом скрывали свое раздражение. Тогда Диккенс написал жене из Пармы, напомнив, как они обязаны Макриди: ведь когда они были в Америке, актер взял на свое попечение их детей. "Ни в коем случае не допускай, чтобы естественное неудовольствие ее глупыми выходками (я говорю о Сьюзен) хотя бы в какой-то степени помешало тебе исполнить твой священный долг, - предостерегал он. - Ты в подобных случаях слишком уж легко поддаешься минутной вспышке досады или недовольства, Джорджи - тоже... Я огорчился (о чем непременно сказал бы Джорджи перед отъездом, если бы представилась возможность), видя, как она совершает вопиющее, непростительное безрассудство, - я имею в виду ее письмо к Форстеру (она поймет, о чем идет речь). Это письмо для него - отличная возможность совершенно исказить все события, и он будет рад ею воспользоваться. Я никогда не простил бы себе - и тебе, - если бы по столь чудовищно нелепой причине между мною и Макриди возникла хоть тень отчуждения или неприязни. А я предсказываю тебе, что это произойдет непременно, если ты не будешь обращаться с девочкой осторожнее, чем с раскаленным железом, если не станешь мягче, нежнее. Можешь быть уверена, что весь этот месяц в Пескьере она никому так не мешала, как мне... Я, однако, так высоко чту гостеприимство (даже если оно не связано ни с какими другими обязательствами), что не позволю себе задеть даже Флетчера, хотя иной раз едва сдерживаюсь, чтобы не "осадить" его". Заключив свое письмо новыми наставлениями по поводу того, как его жене вести себя со Сьюзен, Диккенс отправился в Лондон, чтобы прочесть там свои "Колокола" и увидеться с тем самым Форстером, которого, судя по этому письму, уже видел насквозь. Впрочем, когда у Форстера примерно в это же время умер единственный брат, Диккенс написал ему: "У Вас остался еще один брат, связанный с Вами не менее прочными узами, чем узы кровного родства". О непостоянстве его нрава свидетельствует еще и такой поступок: лишь неделю спустя после сурового письма из Пармы он пригласил в Геную на рождество Дугласа Джеролда с женой и, уговаривая его приехать, сделал приписку: "Ручаюсь, что такой доброй души, как моя женушка, такой противницы жеманства и чопорных манер не сыщешь на белом свете".
В начале 1845 года, возвратившись из Лондона, Диккенс, как уже было сказано, уехал с женою на юг Италии. В Риме супругам довелось побывать на карнавале: "Каждый день в два часа пополудни мы выплываем в открытой карете, захватив большущий пакет леденцов и по крайней мере пятьсот букетиков, которыми забрасываем прохожих... Жаль, что Вы не увидите, как, встретившись с шикарным "разбойником", я ловко швыряю пригоршню огромных конфетти прямо ему в нос! Ничто в жизни не удавалось мне с таким блеском. "Колокола" - ничто в сравнении с этим!" Старый город, Колизей и Кампанья произвели на него глубокое впечатление, зато современная часть Рима не понравилась вовсе, а собор Святого Петра* он охотно променял бы на любой английский собор. В Неаполе их догнала Джорджина, и они втроем взбирались на Везувий, пережив, как и полагается в таких случаях, массу всяческих страхов и ужасов. Знаменитый залив оказался "несравненно хуже Генуэзского", город был грязен, неаполитанцы, как выяснилось, препротивный народ, а дом неаполитанца похож на свиной хлев. Вернувшись в Рим, Диккенсы встретили чету де ля Рю - и начались неприятности...
* (Собор Святого Петра - один из крупнейших памятников эпохи Ренессанса в Риме. Строился в XV - XVII веках. В создании собора принимали участие величайшие художники Возрождения: Браманте, Микеланджело, Рафаэль.)
Заехав во Флоренцию, путешественники в начале апреля вернулись в Геную, где не были вот уж около десяти недель. За время отсутствия Диккенс потолстел. "Я замечаю, что от моего жилета нет-нет да и отлетит пуговица, и с какой еще силой!" Физиономию его украсили довольно длинные усы, без которых, объявил он, "жизнь утратила бы всякую прелесть!". В июне Диккенсы отправились к себе на родину, миновав по дороге в Швейцарию Сен-Готардский перевал (что было в те дни не на шутку опасно) и на неделю задержавшись во Фландрии, где отлично провели время с Форстером, Маклизом и Джеролдом - без устали болтали, осматривали достопримечательности и оглашали воздух громким хохотом.
Возвращаться домой всегда приятно, а его к тому же ждало известие о том, что Бредбери и Эванс заплатят ему за "Колокола" значительно больше, чем Чэпмен и Холл за "Рождественскую песнь". Казалось бы, куй железо, пока горячо, и берись за новую повесть! Но Диккенс задумал совсем другое. Не теряя ни минуты, он взялся за создание журнала - еженедельника, такого же жизнерадостного, как и его основатель, пронизанного "духом сердечности и тепла, щедрого веселья и благожелательности - словом, всего, что связано с понятием "домашний очаг". Ему хотелось назвать еженедельник "Диккенсом", но это было неловко (ведь "диккенс" значит еще и "черт"), и он придумал другое название: "Сверчок". "Будет себе стрекотать в каждом номере, - писал он Форстеру, - "чирп" да "чирп", - глядишь, и настрекочет мне тысяч эдак - ну, вам лучше знать сколько!" Но Форстер "отстрекотал" его от этой затеи, и вскоре он был уже поглощен новыми, более широкими планами - теперь уже выпускать газету, которая могла бы конкурировать с "Таймсом", выступать в поддержку радикальных реформ и защищать прогрессивные идеи. От первоначального замысла уцелело лишь слово "Сверчок" - половина названия его новой "рождественской" книги: "Сверчок на печи". (Книга вышла в декабре 1845 года, и спрос на нее оказался вдвое больше, чем на все предыдущие.)
Что касается новой газеты, она приобрела известность под названием "Дейли ньюс". Бредбери и Эванс издавали и частично финансировали ее, но большую часть капитала для своего нового предприятия Диккенс раздобыл у друзей - главным образом у Джозефа Пакстона* (будущего автора Хрустального дворца). Итак, начало было положено, и Диккенс взялся за дело. Он обратился к ведущим критикам, писателям и журналистам, предложив им лучшие условия, чем те, на которых они работали. Редактору, то есть себе самому, он предложил две тысячи фунтов в год, и редактор согласился. Нужно сказать, что Бредбери и Эванс назначили редактору более скромное жалованье - всего тысячу фунтов. Дело кончилось тем, что другим газетам пришлось либо расстаться со своими лучшими сотрудниками, либо прибавить им жалованье. Едва ли нужно говорить, как возмутились и встревожились владельцы, издатели и редакторы. Среди газетчиков - не считая, конечно, тех, кому такая щедрость оказалась на руку, - имя Диккенса приобрело самую дурную известность. Все вакансии в газете он, по мере возможности, постарался распределить между своими родными и знакомыми, что с точки зрения дружбы было очень похвально, но службе зачастую шло во вред. Диккенс-отец ведал репортерами, тесть Диккенса получил отдел музыкальной и театральной критики, дядя стал штатным сотрудником газеты, леди Блессингтон согласилась доставать по секрету материал для светской хроники. Статьи тоже заказывались друзьям: Форстеру, Джеролду, Ли Ханту и Марку Лемону. Дел было хоть отбавляй, но они не мешали Диккенсу совершать свой обычный моцион: в канун рождества 1845 года он писал: "Я по-прежнему хожу пешком в Харроу, вчера меня едва не унесло ветром на Хемпстед-Хит, а на днях под проливным дождем ходил в Финчли. Каждое утро принимаю холодную ванну и до вечера налаживаю механику "Дейли ньюс".
* (Пакстон Джозеф (1803 - 1865) - английский садовод и архитектор. Спроектировал для Лондонской выставки 1851 года хрустальный дворец. Финансировал газету "Дейли ньюс", основанную Диккенсом в 1846 году.)
В газете все уже шло как по маслу, когда начались неприятности с Бредбери и Эвансом. То ли им пришлись не по вкусу размеры диккенсовского жалованья, то ли чересчур властные манеры редактора - как знать? Форстер, например, сообщил Макриди, что худшего редактора, чем Диккенс, представить себе невозможно. Впрочем, "деликатность" Форстера-биографа в данном вопросе граничит с искажением фактов; ему не следует доверять еще и потому, что несколько лет спустя Диккенс опять работал в качестве редактора, и блестяще. Более того, по свидетельству У. Дж. Фокса, одного из виднейших представителей Лиги борьбы против хлебных законов* и главного автора передовиц, Форстер постоянно затевал в редакции склоки: "Как только мнения разделяются, Форстер почти всегда выступает против меня и Диккенса". Как бы то ни было, но через неделю после выхода в свет первого номера газеты Бредбери и Эванс нанесли Диккенсу серьезное оскорбление. Первый номер вышел 21 января 1846 года, хотя в четыре часа утра это было еще очень сомнительно. Если верить Джозефу Пакстону, оказалось, что печатник ничего не смыслит в типографском деле и нужны были нечеловеческие усилия, чтобы все-таки выпустить номер. "Четыре часа тянулось томительное ожидание, какого я не испытывал никогда в жизни, - пишет Пакстон, - даже в тот день, когда моя любимая жена разрешалась от бремени". Читатели накинулись на газету и за несколько часов расхватали более десяти тысяч экземпляров. В ней был напечатан первый выпуск диккенсовских "Картинок Италии" - лакомая приманка! Зато редакторы-конкуренты, взглянув на "Дейли ньюс", успокоились: неумело сверстана, неудачный шрифт, плохая бумага. Вечером издательства-конкуренты ликовали. В издательствах-конкурентах люди поздравляли друг друга. А "Дейли ньюс" после многочисленных злоключений все-таки добилась успеха. Диккенс же, оказавший немалую услугу газетчикам, повысив им жалованье, три недели спустя расстался с "Дейли ньюс". (Его место в редакторском кресле занял Форстер, и тоже ненадолго.)
* (Лига борьбы против хлебных законов - была создана в Манчестере в 1838 году манчестерскими фабрикантами-фритрейдерами, то есть сторонниками свободной торговли, для борьбы за отмену пошлин на хлеб, благодаря которым английские землевладельцы удерживали высокие цены на него. Пошлины были отменены парламентским биллем в 1846 году.)
Отчего это произошло? Заглянем в письмо Бредбери и Эванса от 28 января. "Кое-кто, - писали Бредбери и Эванс, не называя имен, - считает, что один из сотрудников Диккенса не годится как помощник редактора". 30 января в ответном письме Диккенс потребовал, чтобы ему сказали, чье это мнение. "Я категорически заявляю, что немедленно уйду из газеты, если вы не сообщите, кто это сказал. Впрочем, считаю своим долгом добавить, что я, весьма вероятно, все равно уйду. Решительно всякий - тем более на моем месте - расценил бы Ваш поступок как вопиющую и непростительную грубость. Я глубоко возмущен и намерен поступить соответственно". С владельцами газет - или даже совладельцами - редакторы обычно не разговаривают в подобном тоне. Боясь, что он передумает, один из партнеров, Бредбери, старался систематически доводить Диккенса до белого каления, не давая ему остыть, и так в этом преуспел, что через полмесяца после ухода из газеты Диккенс писал Эвансу: "Что касается Вашего партнера, я сейчас не настроен вести с ним личные переговоры. Я считаю, что его постоянное вмешательство во все, что бы я ни делал, было в равной степени невежливо по отношению ко мне и вредно для газеты". Далее Диккенс подробно перечисляет все неприятности, которые причинил ему Бредбери, главным образом тем, что платил некоторым из сотрудников меньше, чем обещал Диккенс: "...он всякий раз ставил меня в такое гнусное и оскорбительное положение, что одно воспоминание об этом снова приводит меня в бешенство". Судя по всему, можно заключить, что для Бредбери "каждый, кто в вознаграждение за свои услуги получает жалованье, - личный враг, к которому следует относиться подозрительно и недоверчиво". К этим обвинениям Диккенс счел нужным добавить: "Больно сознаться, но я замечал, что часто отношение мистера Бредбери к моему отцу вовсе не делает чести ему и бестактно по отношению ко мне. Между тем нужно сказать, что среди людей, связанных с газетой, нет сотрудника более ревностного, бескорыстного и полезного". Вполне вероятно, что Бредбери и Эванс были чем-то вроде Спенлоу и Джоркинса*, поменявшихся ролями, и в критические моменты по очереди расплачивались за промахи своей совместной политики. Диккенс постарался уверить Эванса, что там, где дело не касается газеты, он по-прежнему высоко ценит Бредбери. (Сказать об этом, по-видимому, не мешало: фирма "Бредбери и Эванс" как раз готовилась издать его "Картинки Италии".)
* (Спенлоу и Джоркинс - персонажи романа Диккенса "Дэвид Копперфилд", владельцы юридической конторы. Мистер Спенлоу изображал из себя доброго, сердечного, щедрого человека, вынужденного подавлять свои чувства в угоду якобы жестокому и прижимистому Джоркинсу.)
Поразительная вещь! Все это время - налаживая сложный механизм "Дейли ньюс" и готовясь к выпуску газеты (где дел было столько, что обычный человек увяз бы по горло) - Диккенс был не меньше занят еще и в театре. Он ставил две пьесы: "Всяк молодец на свой образец" Джонсона - в сентябре и ноябре 1845 года - и "Старший брат" Бомонта и Флетчера - в январе 1846 года. Мало того, он еще и играл в них. В постановке принимали участие все его друзья, каждый помогал как мог. Марк Лемон*, новый приятель - ни дать ни взять шекспировский Фальстаф, - играл с таким блеском, что в будущем Диккенс всегда старался занять его в каждой своей постановке. Не обошлось и без Макриди: актер помогал, давал советы, считая все это в общем детской затеей, и был немало раздосадован, когда печать встретила джонсоновскую пьесу многочисленными восторженными отзывами. Как обычно, почти все делал сам Диккенс; он проводил репетиции, добиваясь лучшего, на что были способны актеры, придумывал декорации, костюмы, писал тексты афиш, учил плотника и давал указания дирижеру; он оформлял здание театра, ставил номера на креслах, приглашал актеров на сцену и был одновременно ведущим актером, бутафором, режиссером и суфлером. Удивительно, как терпеливо этот горячий человек относился к актерам. Он писал Кеттермолу, что притащит своего брата Фредерика в театр за волосы, "чтобы Вы могли в понедельник репетировать с ним, сколько душе угодно. Меня не так-то просто утомить!" Спектакль "Всяк молодец на свой образец", поставленный в театре "Роялти" (Сохо), произвел сенсацию, и через два месяца его пришлось повторить в Сент-Джеймском театре перед принцем Альбертом и знатью, заполнившей зал до отказа. Теккерей вызвался петь в антрактах, но его услугами не воспользовались, чем он был весьма обижен. Сборы пошли на благотворительные цели.
* (Лемон Марк (1809 - 1870) - английский журналист, юморист, ведущий сотрудник известного сатирического журнала "Панч". Один из близких друзей Диккенса.)
Впрочем, судя по одной фразе лорда Мельбурна*, эта публика была плохо знакома со щедростью, во всяком случае душевной. Лорд Мельбурн во время антракта во всеуслышание заявил: "Я знал, что пьеса будет скучная, но это такая беспросветная скучища, которой даже я не ожидал".
* (Лорд Мельбурн Уильям Дамб (1779 - 1848) - английский государственный деятель, член многих министерств. Премьер-министр в 1834, 1835 - 1841 годах.)
Что касается Диккенса, то он не искал общества знатных особ, хотя был человеком необыкновенно общительным. Ставя спектакли, выпуская газету, работая над книгой путевых заметок и побивая для собственного удовольствия рекорды по ходьбе, он находил еще время принимать гостей у себя на Девоншир-Террас. В театре и газете он вникал во всякую мелочь и дома точно так же умел своевременно позаботиться обо всем, что требовалось по хозяйству. Так, в крещенский праздник 1846 года он второпях писал Кэт из своей редакции на Уайтфрайрс: "Ужас, что за погода! Не послать ли тебе к Эджинтону на Пиккадилли? Может быть, его люди возьмутся за сходную плату построить навес от нашей парадной двери до обочины тротуара? Их теперь делают повсюду. Дамам, право же, слишком далеко приходится идти по дождю". Что ни говори, а на приемы уходила масса денег, и он знал, что единственный способ пожить экономно - это уехать за границу. Осенью 1845 года жена подарила ему шестого ребенка, и теперь при мысли о будущем ему становилось жутковато: быть может, детям, носящим столь громкие имена, нужно дать в жизни что-то особенное? Первенец Диккенса был назван Чарльзом в честь отца, старшая дочь (прозванная в семейном кругу Мэми) носила имя покойной Мэри, сестры Кэт. Остальным детям отец дал имена своих друзей: Макриди, Лендора, Джеффри, д'Орсэ, Теннисона, Бульвер-Литтона и Сиднея Смита. Одного в честь знаменитого писателя окрестили Генри Филдингом. Младшего отпрыска нарекли Альфредом д'Орсэ Теннисоном, и оба крестных отца давали традиционные обещания у купели Мэрилебонской церкви. Обеспокоенный участью обладателей всех этих знаменитых имен, полубольной от передряг, связанных с газетой, чувствуя, что его творческая мощь иссякает, Диккенс обратился к одному из членов кабинета с просьбой предоставить ему должность в лондонском магистрате. Ответ пришел необнадеживающий, и Диккенс снова решил сдать свой дом, поехать за границу, начать новую книгу и скопить денег. Им уже овладело привычное возбуждение - предвестник очередного творческого "запоя". "Смутные мысли о новой книге роятся во мне, - писал он в марте 1846 года леди Блессингтон. - Я брожу по ночам бог весть где - Вы же знаете, что со мной всегда творится в такие дни: алчу покоя и не нахожу его". История с газетой взволновала и огорчила его. Ему стало казаться, что больше всего ему нужны покой и отдых, но, когда у него бывала реальная возможность насладиться и тем и другим, он терял покой, а об отдыхе не хотел и думать.
Ехать снова в Геную, где все напоминало о де ля Рю, Кэт решительно отказалась, хотя он всячески уговаривал ее. Зато от поездки по Швейцарии у них остались самые лучшие воспоминания, и супруги поладили на том, что проведут шесть месяцев у Женевского озера. 1 июня 1846 года, снова в сопровождении Луи Роша, Диккенсы покинули старую добрую Англию и отправились вниз по Рейну, обнаружив по дороге (в Майнце), что диккенсовские произведения пользуются широкой известностью в Германии. Из Базеля в трех каретах отправились в Лозанну. Ехали трое суток, причем по дороге случилось происшествие, о котором Диккенс любил потом рассказывать с соответствующей мимикой и интонацией. В одной таверне, где они остановились, плохо кормили, о чем их кучер заявил хозяину. "После недолгого обмена любезностями хозяин произнес:
- Scélérat! Mécréant! Je vous boaxerai!*
* (Нехристь! Злодей! Погоди, набоуксирую тебя как следует. )
На что наш "вуатюрщик"* ответствовал:
* (От voiture (фр.) - карета.)
- Aha! Comment ditez-vous? Voulez-vous boaxer? Eh? Voulez-vous? Ah! Boaxez-moi done!*
* (Что-о? Что ты сказал? Набоуксируешь? Да? Вот ты чего захотел? Ха! Ну-ка, боуксни попробуй! )
Эти реплики сопровождались жестами, полными зловещего смысла и говорившими яснее всяких слов, что новый глагол образован от популярного английского глагола "боксировать", то есть попросту залепить оплеуху. Повторили они это свое "набоуксировать" по меньшей мере раз сто, неизменно приводя этим друг друга в полнейшее бешенство".
В Лозанне на первых порах остановились в отеле "Жибон", а потом Чарльз и Кэт подыскали и постоянное жилье - прелестную маленькую виллу "Розмон", расположенную на холме, прямо над водою, и окруженную чудными садами. Из окон открывался великолепный вид на озеро и горы, а стоило это великолепие десять фунтов в месяц.
Понимая, что духовное развитие детей тоже лежит на его ответственности, Диккенс не сразу взялся за новую серьезную вещь, а написал сначала житие Иисуса Христа, простым, понятным для детей языком. Вскоре вокруг него образовался кружок знакомых: бывший член парламента Уильям Холдиманд, швейцарский джентльмен по имени де Сержа и Ричард Уотсон с женою, у которых Диккенс впоследствии иногда гостил в Рокингемском замке в Нортгемтоншире. Окрестности Лозанны напоминали нашим путешественникам Англию, да и швейцарским протестантам были свойственны черты лучшей части английской нации: это был жизнерадостный народ, опрятный, чистоплотный и трудолюбивый - народ, на который можно положиться. Книжные лавки на улицах Лозанны попадались на каждом шагу, а монахи и священники, к счастью, очень редко. Зато стоило заехать в католический кантон, и сразу же все вокруг менялось: "грязь, болезни, невежество, мрак и нищета". Так и "в Ирландии, - писал Диккенс, - причина всех зол - религия, а в Англии - порочная система правления и подлые дела тори".
Кто только не побывал у них, пока они жили в Швейцарии! И Тальфуры, и Гаррисон Эйнсворт, и молодожены Томпсоны. Приехал Теннисон, которым Диккенс искренне восхищался, но без взаимности: Теннисона раздражала диккенсовская сентиментальность. Диккенс пригласил поэта в Швейцарию на все лето, но Теннисон, чувствуя, что, живя бок о бок, им не поладить, отказался; и умно поступил: первые две недели Диккенс обычно бывал чудо как гостеприимен, потом гость ему надоедал. Много, но ненадолго - вот что было ему по душе! Диккенс усердно занялся французским языком и вскоре свободно говорил на нем, хотя так и не смог избавиться от сильного английского акцента. Ходил он без устали, как всегда, чаще всего вечером, после работы, миль по пятнадцать каждый день. Лето близилось к концу, и он повез Кэт и Джорджину в Шамони и на Сен-Бернардский перевал. "Мон-Блан, долина Шамони, Мэр де Гляс и вообще все чудеса этого чудеснейшего уголка превзошли все ожидания. Не могу представить себе ничего более грандиозного и величественного. С ума схожу при мысли о том, что можно написать об этом. Впечатления так и клокочут во мне".


За новую свою вещь - "Домби и сын" - он взялся в конце июня, но писать в привычном стремительном темпе не мог. Мешало тревожное сознание, что одновременно с новым романом придется готовить очередную рождественскую повесть; мешало отчасти и подавленное настроение, от которого он то и дело страдал, живя в Лозанне, настолько, что стал даже серьезно опасаться полного упадка сил или нервного расстройства. А кроме того, ему не хватало лондонских улиц - ночных улиц, запруженных народом. "Сказать не могу, как они мне нужны. Они как будто дают моему мозгу нечто жизненно необходимое для работы". Он был, как всегда, неистощимо изобретателен и с трудом сдерживал себя, чтобы "не поддаться соблазну потешить душу фантастическими выдумками". Некоторые отрывки получались настолько смешными, и он так хохотал над ними, что слезы застилали ему глаза, мешая работать. В сентябре он на время отложил "Домби", чтобы начать обещанную рождественскую повесть "Битва жизни". Однако, написав приблизительно треть ее, вдруг испугался: как бы "Домби" не пострадал из-за того, что он отдает столько энергии другой книге, торопясь закончить ее в срок. Бог с ней, с повестью, он вообще не станет ее писать. Но на душе стало еще тревожнее. Так недолго и заболеть! Чтобы прийти в себя и передохнуть, он помчался в Женеву, надеясь, что перемена обстановки поможет ему принять правильное решение. Так оно и случилось. Ему стало лучше, и он вновь почувствовал, что способен одолеть обе книжки. Возвратившись в Лозанну, он быстро закончил "Битву жизни", подготовил новый выпуск "Домби", снова поехал в Женеву и здесь в "Отеле де Лекю" "испек" еще один выпуск, посвященный воспоминаниям ранних лет. "Надеюсь, что заведение миссис Пипчин вам понравится. Оно взято из жизни. Я и сам в нем побывал - кажется, мне не было тогда и восьми лет. Впрочем, я помню его, как сейчас, и, уж конечно, понимал его тогда не хуже, чем нынче... Об этом раннем кусочке моей жизни вспомнилось мне в Женеве".
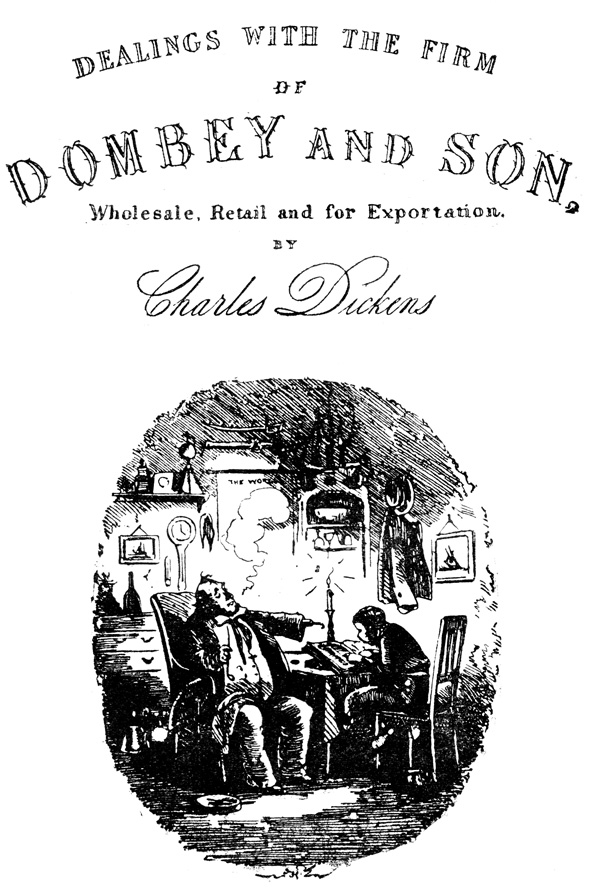
Первый выпуск "Домби и сына" был напечатан в октябре 1846 года и имел, к радости автора, огромный успех: по сравнению с его последней книгой, "Мартином Чезлвитом", было продано на двенадцать тысяч экземпляров больше. Выпуски выходили ежемесячно вплоть до апреля 1848 года. Сам Диккенс был о "Домби" высокого мнения. "Я возлагаю на "Домби" большие надежды, - признался он своему тестю, - верю, что его надолго запомнят и будут читать даже много лет спустя... С самого начала я отдавал ему все свои силы и время - и в каком же я странном состоянии теперь, когда мы с ним расстались!" В "Домби", как и во всех его книгах, очень много хорошего, такого, что мог создать только он, но не меньше и плохого, чего, кроме него, никто и не осмелился бы написать. Его творческие удачи великолепны, промахи его чудовищны. Быть может, лишь тот, кому удалось создать Каттля, способен придумать Каркера. Это ведь вообще не человек, а просто орудие, которым Диккенс воспользовался, чтобы излить свою ненависть и отвращение. Каркер "с ног до головы пропитан коварством", он сидит за работой, "как кот, подстерегающий мышонка у норы", он мурлычет и гладит "мягкой", бархатной лапкой, готовый в любой момент выпустить острые когти". Когда он проезжает мимо хозяйского крыльца, пес Диоген рычит и лает, а с невозмутимого летописца вдруг будто ветром сдувает всякую сдержанность: он неистовствует так, что Флобер был бы просто шокирован*. "Так его, Ди! И держись поближе к хозяйке! - восклицает Диккенс. - Ату его, ату! Выше голову! Глаза горят, свирепая пасть готова рвать на части. Так его! Не давай ему прокрасться мимо! Ты не ошибся, почуяв добычу, - это кот, Ди, это кот!" Из чего мы можем заключить, что Диккенс не слишком-то жаловал кошек. Каркеру уготована не безмятежная кончина - это ясно; но Диккенс полумер не признает. Каркер попадает под скорый поезд. Он "пронзительно закричал, его сбило с ног, подхватило, затянуло под колеса, закрутило, искромсало, изрезало, и огненное чудовище, слизнув лужицу жизни, выплюнуло в воздух раздробленные черепки". Уф! Право же, можно подумать, что Каркер - это переодетый издатель!
* (Он неистовствует так, что Флобер был бы просто шокирован. Флобер Гюстав (1821 - 1880) - выдающийся французский писатель-реалист, автор широко известных романов "Госпожа Бовари", "Воспитание чувств", "Саламбо" и др. Флобер требовал от писателя научного подхода к изображаемой действительности и прежде всего - чтобы он оставался объективен и бесстрастен по отношению к своим героям и их переживаниям.)

Первые читатели "Домби и сына" жили в те времена, когда железные дороги и паровозы были в новинку, потому-то мы и читаем так много о железных гигантах, которые мчатся по земле, изрыгая пар и языки пламени. Клубы дыма сгустились в воздухе, и, как бы в ответ на это, сгустились тучи на горизонте духовной жизни века, и творчество Диккенса, это волшебное зеркало эпохи, уже отражает их. Чего стоит, например, его "падшее созданье", это исчадие тьмы, которое он посылает "во мглу ночи, под воющий ветер и хлещущий дождь"! Но есть в книге и сцены, пронизанные тончайшим юмором. Одна из них посвящена миссис Чик, возмущенной коварными намерениями мисс Токс. "Ну, теперь у меня с глаз пеленка спала, - и миссис Чик сорвала с глаз невидимую детскую пеленку". Да и капитану Каттлю не сыщешь равных среди всех книжных моряков. Он один из немногих диккенсовских героев, которые будят в душе читателя чувство умиротворения, - оттого, быть может, что, любуясь морем, автор книги всегда вкушал душевный покой (насколько это было возможно при его темпераменте). Даже от любимых книг капитана веет миром и тишиной; "ибо он поставил себе за правило читать по воскресным дням одни только толстые книги из уважения к их солидному виду. Много лет назад он приобрел в книжной лавке преогромную книжищу. Когда бы он ни взялся за нее, пяти строк бывало достаточно, чтобы у него начали путаться мысли. Он еще так и не выяснил, о чем в ней говорится".
В середине ноября 1846 года Диккенс увез свое семейство в Париж, испытав несколько неприятных моментов в пограничной таможне, где "взвешивали наше столовое серебро - каждую ложечку, каждую вилку. Мы торчали тут же, в густом тумане, на трескучем морозе, три с половиной часа! И какой только чепухой не занимались в это время чиновники! О чем только не спорили с моим храбрым курьером!" Споры, по-видимому, были вызваны тем, что "курьер Рош добровольно, упорно и без всякой надобности нес несусветную чушь о моих книгах, исключительно ради удовольствия подурачить чиновников". Остановившись в отеле "Брайтон", Диккенс тут же принялся ходить по всему городу, то и дело забираясь бог весть куда и не зная, как попасть домой. "Найти жилье, оказывается, ужасающе трудно", - писал он, уже водворившись в доме № 48 по Рю де Курсель. "Четыре дня подряд - сплошная пытка. Но в конце концов дом у нас все-таки есть, и к тому же, по-моему, самый нелепый на свете (о чем Вам с гордостью и сообщаю). Ничего подобного, насколько мне известно, на земном шаре нет и быть не может. Спальни - как театральные ложи. В столовых, коридорах и лестницах разобраться совершенно невозможно. Столовая представляет собою нечто вроде пещеры, размалеванной с пола до потолка под рощицу, причем между ветками деревьев натыканы зачем-то осколки зеркала. В отделке гостиной виден проблеск здравого смысла, но попасть в нее можно только сквозь вереницу малюсеньких комнатушек, похожих на суставы телескопа и увешанных драпировками загадочного назначения. Подобную анфиладу мог бы с успехом задумать и осуществить (получив нужные материалы) безнадежный и неизлечимый пациент какого-нибудь сумасшедшего дома". На первых порах он даже не мог работать в этом диковинном сооружении и часами просиживал за столом, не написав ни слова. Пришел декабрь, и с ним лютые холода: "Вода в умывальных кувшинах застывает твердыми глыбами с горлышка до дна; кувшины взрываются, как пушечные ядра, а твердые, как гранит, глыбы выкатываются на стол и в умывальник". Но толпы на улицах разгоняли уныние, а вид трупов - он изредка бывал в Морге - действовал успокоительно, и вскоре он уже работал на полную мощность. Немало огорчений доставляли ему иллюстраторы. Физ составил себе совершенно неверное представление о миссис Пипчин, а Лич допустил серьезную ошибку в одной из гравюр к "Битве жизни". Первому были посланы подробные наставления, но изъять гравюру Лича было поздно, да и обижать художника не хотелось, и Диккенс смолчал. А кроме того, автор "Домби" заметил, что вещи, которые ему "кажутся чудовищными, другим могут представляться в совершенно ином свете".
С 15 по 20 декабря он пробыл в Лондоне, чтобы присутствовать на репетициях "Битвы жизни": его новая рождественская повесть была переделана для сцены. Обнаружив, что очень немногие из исполнителей понимают, о чем идет речь и как нужно играть, он устроил для них читку у Форстера. "Состоялась читка пьесы. Форстер расщедрился на семьдесят шесть бутербродов с ветчиной (закупленных в Гольборне) - наиогромнейших размеров и с наисвежайшим хлебом. Когда вышеупомянутые продукты попали в желудки присутствующих и уютно расположились в них (в результате чего пропорции дамских фигур чудовищно исказились), Форстер распорядился, чтобы сорок два несъеденных бутерброда роздали беднякам. Генри было приказано найти самых бедных женщин, но не отдавать им ни одного бутерброда, не разузнав хорошенько, кто они, какого поведения, какую жизнь прожили. Форстер неподражаем!" Пьеса имела бурный успех, театр ревел, вызывая на сцену автора. После спектакля автор вернулся в Париж, узнав накануне отъезда, что в первый же день по выходе в свет было распродано двадцать три тысячи экземпляров "Битвы жизни".
Но старый враг - газета "Таймс" не унималась. "Сверчок на печи" на ее страницах был назван "пустой болтовней, распиской в собственной глупости". Автору советовали пополнить свое скудное образование, занявшись чтением на досуге, и обвиняли его в том, что он восстанавливает бедных против богатых. А между тем, внимательно прочитав страницы, посвященные домашней жизни трудового люда, можно сказать, что дело обстоит как раз наоборот. Отзывов о своей работе он обычно не читал - разве что когда друзья обращали его внимание на что-нибудь особенно лестное. Но сейчас ему попалась на глаза чья-то ссылка на статью "Таймс" о "Битве жизни". Статья была особенно гнусной. В ней говорилось, что именно Диккенс повинен в том, что книжный рынок ежегодно наводняется "потоком макулатуры", то есть рождественскими рассказами, - мало того, что сам он состряпал, "безусловно, самый бездарный из них". Во всех его последних книгах, разглагольствовал критик, нет "и тени самобытности, жизненной правды, естественности или красоты", а так как он, несомненно, не лишен таланта - это ясно из "Пиквика", - его "неслыханное бесстыдство непростительно". Ему следует "остеречься и не повторять больше подобных промахов", поучал автор статьи. "Еще раз прошлись тупой бритвой по нервам мистера Б... - писал об этой рецензии Диккенс. - Неподражаемый - в тоске и унынии. Едва может работать. Всю ночь снились "Таймсы". Подумывает о том, чтобы уехать в Новую Зеландию и выпускать там журнал". Впрочем, приступ тяжелого настроения оказался недолгим: не прошло и двух дней, как он уже с головой ушел в работу над очередным выпуском романа. Выпуск закончился смертью Поля Домби и сопровождался размышлениями автора о том, не потребовать ли, чтоб ему "выдали паспорт на выезд ввиду той гигантской популярности, которой пользуется среди французской нации стена моего дома в качестве ватерклозета".
С Полем Домби он разделался 14 января 1847 года, в 10 часов вечера, "и, не питая никакой надежды на то, что мне потом удастся заснуть, вышел и до завтрака бродил по Парижу". Смерть маленького Поля потрясла английских читателей не меньше, чем в свое время кончина малютки Нелл, и навела американцев на мысль о том, что "Мартин Чезлвит" был лишь временным помрачением рассудка. Париж, если верить Диккенсу, был изумлен. Теккерей, только что напечатавший второй выпуск своей "Ярмарки тщеславия", ворвался в издательство "Панча" с криком: "Равного этому написать невозможно, нечего и надеяться! Это грандиозно!" А Джеффри писал ему: "Милый, милый мой Диккенс!.. Как я плакал, как рыдал я над Полем и вчера и сегодня! Я чувствовал, что душа у меня становится чище от этих слез, и благословлял, и любил Вас, за то, что Вы заставили меня их пролить - и всегда будут безмерны мое благоговение и любовь к Вам". Все это помогло Диккенсу окончательно забыть про "Таймс".
Во второй половине января к другу в Париж приехал Форстер, и приятели постарались за две недели увидеть решительно все: людей, тюрьмы, дворцы, картинные галереи и увеселительные заведения. Они съездили в Версаль и Сен-Клу, осмотрели Лувр и Морг, побывали в опере, драме, варьете, ужинали с Александром Дюма и Эженом Сю, были в гостях у Виктора Гюго и Шатобриана, встречались с Теофилем Готье, с Ламартином и Скрибом и проделали кучу других вещей, которые делают люди, которым нравится делать вещи подобного рода.
Пребывание Диккенса в Париже было внезапно прервано известием о том, что старший сын его, находившийся в это время в школе Кингз Колледж, заболел скарлатиной. Диккенс с женой немедленно возвратились в Лондон, а вслед за ними - и Джорджина с остальными детьми. Их дом на Девоншир-Террас был все еще занят, так что пришлось снять другой - № 1 на Честер-Плейс (Риджент-парк). Там они прожили с начала марта и до июня, а потом уехали на лето в Бродстерс. Мальчик поправился. В апреле у Диккенса родился пятый сын. Это был его седьмой ребенок, а Диккенс еще после того, как на свет появился четвертый, выразил надежду на то, что "моя хозяюшка никогда больше ничего такого себе не позволит". Можно себе представить, как он обрадовался бы, узнав, что в один прекрасный день она подарит ему десятого младенца!..