(CD и DC - то есть Чарльз Диккенс и Дэвид Копперфилд. По-английски слова Чарльз и Копперфилд начинаются с одной буквы "С".)
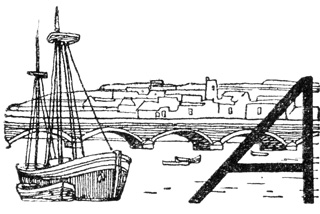
Актер, подобно человеку, дающему объявление в газете, создает спрос, и в области театра спрос возникает вслед за предложением. Вначале пьесы создавались не для публики, а для исполнителей: пьесы породили потребность в зрелищах, но их самих породила потребность актера: играть! Отчего Диккенсу и его труппе понадобилось ставить спектакли? Причин приводилось множество, кроме единственно верной: Диккенс хотел играть и заражал этим желанием других. Чтобы возобновить свое театральное подвижничество, он в 1847 году ухватился за первый удобный предлог: помочь Ли Ханту. Но не успели актеры объявить о своих намерениях, как правительство предоставило Ханту пенсию. Эта опрометчивая поспешность, столь несвойственная правительствам, обычно отличающимся неповоротливостью, заставила Диккенса и его актеров, не теряя времени, взяться за поиски нового предлога. И снова на помощь явился Хант: оказалось, что он погряз в долгах. Тут подвернулся и другой писатель - Джон Пул*, автор комедии "Пол Прай", пользовавшейся лет двадцать назад большим успехом: Джон Пул тоже испытывал финансовые затруднения. Итак, в июле труппа прибыла в Манчестер, чтобы вновь сыграть пьесу Бена Джонсона, и Диккенс опять оказался в своей стихии. "Я часто думал, что на подмостках, безусловно, добился бы не меньшего успеха, чем в переплете", - сказал он однажды. Он был не только прирожденным актером, но и постановщиком и возился со своей труппой с терпением, которому мог бы позавидовать сам Иов**. Он давал актерам уроки постановки голоса; учил их свободно держаться на сцене, советовал, как тренировать свою память. Когда они нервничали, он вселял в них уверенность, а если были слишком самоуверенны, учил их относиться к себе критически. Когда они говорили, что "на премьере все будет в порядке", он добивался того, чтобы все было в порядке еще на репетиции. Неловкое движение, натянутая интонация, фальшивый жест - ничто не могло ускользнуть от его внимания. Он муштровал свою труппу часами, доводя всех, кроме себя, до изнеможения, а назавтра вскакивал свежий, бодрый и готовый снова взяться за свою тяжелую, утомительную и нервную работу.
* (Пул Джон (ок. 1786 - 1872) - английский драматург.)
** (С терпением, которому мог бы позавидовать сам Иов. Библейское сказание повествует о богатом и добродетельном Иове, благочестие которого бог решил испытать и наслал на него много всяческих бед: лишил жены, детей, богатства, поразил проказою и т. д. Но Иов все перенес терпеливо, безропотно.)
В 1848 году Диккенс узнал о том, что драматург Шеридан Ноулс*, чьи пьесы "Виргиниус" и "Горбун" вызвали в свое время такую бурю восторга, находится в стесненных обстоятельствах. В это же время в Лондоне начался сбор средств, чтобы купить дом Шекспира в Стрэтфорде-на-Эйвоне и устроить в нем музей. Ухватившись за этот предлог, Диккенс задумал поставить пьесу, учредить на собранные деньги пост хранителя музея и отдать его Ноулсу. И снова его похвальный порыв закончился неудачей - на сей раз по вине стрэтфордских властей, взявших на себя заботы о сохранении дома и пригласивших хранителя тоже по собственному усмотрению. Но Диккенс не унимался: в мае, июне и июле 1848 года он дал со своей труппой ряд спектаклей в Лондоне, Бирмингеме, Эдинбурге, Глазго, Манчестере и Ливерпуле и львиную долю сборов передал Шеридану Ноулсу, который незадолго до этого стал баптистским священником и был рад звонкой монете гораздо больше, чем месту хранителя музея. На этот раз диккенсовская труппа поставила "Виндзорских насмешниц". Роль Фальстафа исполнял Марк Лемон, а судьи Шеллоу - Диккенс. Дважды сыграли они эту пьесу и в лондонском театре "Хеймаркет", причем на одном из спектаклей присутствовали королева Виктория и принц Альберт. Каждое представление завершалось водевилем. Потом для актеров устраивался ужин, и Диккенс, на которого заботы актера, режиссера и мастера на все руки действовали, как освежающий душ, разыгрывал роль хозяина, да так, что с начала и до конца ужина за столом царило буйное веселье. Такие затеи были нужны ему как воздух, без них он тосковал, жалуясь на скуку и однообразие будничной жизни. "Вся моя энергия исчезла, и я очень несчастен, - писал он миссис Каунден Кларк, игравшей в спектакле роль мистрис Квикли. - Терпеть не могу домашние очаги! Томлюсь желанием побродяжничать... После парусинового домика, в котором я был так счастлив, настоящий дом кажется несносным". И опять: "Я совершенно отупел и выдохся. До смерти хочется волнений и забот. Неужели никто не придумает что-нибудь такое, от чего мое сердце забьется быстрее, а волосы встанут дыбом?.. Воспоминания! Ох, уж эти воспоминания!" Он мечтал о том, чтобы разъезжать по всей стране и играть, играть везде, ибо "ничто на свете не может сравниться с тем мгновеньем, когда весь театр встает перед тобою морем сияющих лиц, единым всплеском восторга и несется на тебя волной аплодисментов!". Под конец жизни он признался, что всегда хотел быть актером, "великим, единственным - кумиром публики".
* (Ноулс Шеридан Джеймз (1784 - 1862) - английский драматург.)
1849 - 1850 годы, как мы скоро узнаем, были до отказа заполнены множеством всяких дел, зато в период от ноября 1850 до сентября 1852 года его страсть к бродячей жизни была отчасти удовлетворена. Дело в том, что Бульвер-Литтон, стремясь заручиться голосами избирателей своего округа, задумал показать своим избирателям в Нейворте пьесу "Всяк молодец на свой образец"* в исполнении Диккенса и его труппы. Как к этому отнеслись избиратели, неизвестно, но Диккенс очень обрадовался. Да что там! Он, наверное, согласился бы отдать свой голос даже за тори, ради того чтобы сыграть для них. Приступив к постановке с обычным для него увлечением, он вскоре уже держал в руках все нити спектакля, выступая в привычной роли "человека-машины". "По-моему, если уж взялся за такую штуку, то берись за все сразу, - это как мощное предприятие, которому нужно отдать душу и сердце", - писал он Литтону. На одной из первых репетиций Кэт провалилась в люк и сильно повредила связки на ноге, но не успел доктор сказать, что она не сможет принять участие в пьесе, как через несколько часов Диккенс уже репетировал ее роль с Джорджиной. "Ах, сэр, - сказал ему на репетиции главный театральный плотник, - в театре, сэр, все так думают, что публика очень много потеряла, когда вы взялись писать книжки". В ноябре 1850 года джонсоновскую комедию три раза сыграли в Нейворте, а в январе, приехав к Уотсонам в Рокингемский замок, Диккенс познакомился с другой любительской труппой и, "прощупав" ее возможности, поставил с нею для гостей и прислуги две коротенькие пьески.
* ("Всяк молодец на свой образец" - пьеса Бена Джонсона (1573 - 1637), английского драматурга, друга и драматического соперника Шекспира.)
В Нейворте он обсудил с Литтоном проект, которому суждено было в ближайшие два года принести ему множество радостей и забот. Оба - и Литтон и Диккенс - считали, что следует создать фонд помощи нуждающимся писателям и художникам. Так как поддерживать неудачников - долг преуспевающих, то друзья решили засучить рукава и взяться за дело. (Фонд стал впоследствии известен как "Гильдия Литературы и Искусства".) Литтон отдал в дар Гильдии участок земли близ Нейворта, пообещав при этом написать комедию, которую Диккенс будет повсюду играть со своими друзьями. Сборы пойдут в фонд и на постройку домов на участке Литтона. Оба считали, что для успеха дела нужно, чтобы на первом представлении были королева и принц Альберт. Диккенс обратился к герцогу Девонширскому с просьбой предоставить для спектакля его лондонский дом. "Я спроектировал передвижной театр, в котором декорации, машины и все прочее можно поставить в любом подходящем помещении и снова разобрать за каких-нибудь несколько часов". "Мои услуги, мой дом и мое имя - в Вашем распоряжении", - тотчас же отозвался герцог. Он действительно помогал Диккенсу чем только мог, так что последний постепенно проникся к нему большой симпатией и даже вопреки своему обычному правилу гостил у герцога в Четстворте. Королева и принц Альберт обещали явиться на спектакль, и в середине марта 1851 года Диккенс уже репетировал новую комедию Литтона "Не так плохи, как кажемся", вихрем летая от плотников к художникам-декораторам, от портных к механикам, от парикмахеров к осветителям и лихорадочно готовясь к спектаклю. "Я часами простаиваю на сцене, и мои ноги так распухают, что трудно снять чулки... - говорил он. - Я так хорошо выучил все роли, что забываю свою собственную". Спектакль состоялся 16 мая 1851 года в Девоншир-хаусе. Собралась аристократическая публика, и каждый из зрителей заплатил за билет пять гиней. Трудно сказать, кого им больше хотелось увидеть: королеву Викторию или Чарльза Диккенса. Затем было дано несколько представлений в Гановер-сквер-румс, а осенью труппа побывала во многих провинциальных городах. Поездки продолжались и в 1852 году. После первого представления в программу был включен водевиль под названием "Дневник мистера Найтингейля". Он принадлежал перу Марка Лемона, но был наново переписан Диккенсом, исполнявшим в нем шесть ролей: адвоката, лакея, пешехода, ипохондрика, старой дамы и глухого пономаря.
Нет нужды говорить о том, что именно в водевиле Диккенс мог развернуться по-настоящему. Он, как уже говорилось, был прирожденным характерным актером: мудрено ли, что и на подмостках он заблистал именно в характерных ролях? В жизни он редко выдерживал один и тот же характер долгое время, удивительно быстро переходя от одной крайности к другой. То же самое происходило на сцене. Он наслаждался, исполняя в какие-то считанные минуты полдюжины совершенно различных ролей. Он был настоящим артистом-трансформатором. Подвернув манжеты или подняв воротник, он был способен перевоплотиться в мгновенье ока. Представ перед зрителями в каком-нибудь диковинном образе, он мог, например, закинув фалды своего фрака на плечи, молниеносно переключиться на совершенно новую роль. Зоркий, верный глаз, живой ум, быстрые движения, богатая мимика и умение управлять своим голосом - все это помогало ему создавать необычайно разнообразные и живые портреты. Хорош он был в роли Бобадила* из джонсоновской пьесы; еще лучше - в роли Шеллоу из "Виндзорских насмешниц". Нужно было видеть эти деревенеющие члены, эту дрожащую походку, трясущуюся голову, слышать это беззубое шамканье! Каждое его движение, каждая нота дышали старостью, не приемлющей старости! А эти мнимоэнергичные жесты, это неестественное воодушевление, эти жалкие попытки держаться с достоинством! И уже совершенно великолепен был он в "Дневнике мистера Найтингейля", где он так быстро и неузнаваемо менял голос, выражение лица, манеры, платье, осанку - одним словом, весь облик, что зрители не верили своим ушам, узнав в конце спектакля, что большинство ролей исполнял Чарльз Диккенс. Однако роли "героические" ему, как легко догадаться, не удавались. Изобразить мгновенно - это было по его части, но если нужно было создавать портрет медленно, нанося один штрих за другим, - здесь он пасовал. Так, герой комедии Бульвер-Литтона лорд Вильмот, легкомысленный молодой франт, в диккенсовском исполнении сильно смахивал на капитана какого-нибудь голландского капера: чопорного, с деревянными манерами, сухого, приличного и скучного. Однако это была очень ответственная роль, и он не решился доверить ее кому-нибудь другому. "Я по опыту знаю, что, если я сам не возьмусь за Вильмота, пьеса провалится и никто ее не спасет". Ему хотелось сыграть совсем другую роль, но он скрепя сердце отказался от нее. В письме к автору пьесы он признается: "Стать кем-то другим - сколько прелести заключено в этом для меня! Отчего? Бог его знает! Причин множество, и самых нелепых. Это для меня такое наслаждение, что, потеряв возможность стать кем-то вовсе не похожим на меня, я ощущаю утрату. Ведь как славно можно было бы подурачиться!" Что ж, он наверстал упущенное, всласть подурачившись в водевиле!
* (Бобадил из джонсоновской пьесы - капитан Бобадил, хвастун и трус, из комедии "Всяк молодец на свой образец".)
Эта настоятельная потребность "побывать кем-нибудь другим" заставляет нас остановиться и посмотреть, каков же был он сам. И сразу же бросается в глаза его главная отличительная черта: высокий накал энергии. За что бы он ни взялся, он делал все без тени осмотрительности или неуверенности; он целиком отдавался всему: работе, удовольствиям, симпатиям и антипатиям, дружбе, привязанности, интересам, восторгу и негодованию. "Все, что делает гений, он делает хорошо, - сказал он как-то корреспонденту одной газеты. - А тот, кто за все берется и ничего не доводит до конца, - это не гений, поверьте мне". Вот что советовал он человеку, мечтавшему стать писателем: "Отдайте этому занятию столько терпения, сколько потребовалось бы для всех других профессий на свете, вместе взятых". Так подходил к своей работе он сам. Судя по тому, что он то и дело впадал из одной крайности в другую, можно было бы подумать, что это человек непостоянный, ненадежный. Однако чрезмерная эмоциональность уживалась в нем с твердой волей, помогавшей ему сохранять хладнокровие и целеустремленность. Лучший пример тому - его друзья. Большая часть мужчин отдает предпочтение женскому обществу; большинство женщин - тоже. Диккенса интересовали мужчины. Среди них он чувствовал себя в своей стихии и, как видно из его романов и писем, проявлял значительно меньший интерес к прекрасному полу, не считая случаев, когда к этому интересу примешивались более нежные чувства. Быть другом человека, столь беспокойного и своевольного, не так-то просто, и временами казалось, что той или иной дружбе пришел конец, а между тем ни одного из друзей он не потерял навсегда. Особенно верен он был привязанностям ранних лет: Миттону, Бирду... "Мне свойственно очень тепло относиться ко всем, кого я знал в менее счастливые времена", - сказал он однажды.
Однако лучшая иллюстрация этой его особенности - отношения с Форстером. Властные, собственнические манеры Форстера неизбежно должны были вызвать многочисленные вспышки протеста со стороны такого горячего и независимого человека, как Диккенс. Макриди, например, пишет о том, что он, "к сожалению, слышал, в каких несдержанных выражениях они говорят друг с другом", а ведь это было пять лет спустя после той "очень тяжелой сцены", о которой актер писал в своем дневнике в августе 1840 года. К концу 1845 года друзья, очевидно, ссорились постоянно, во всяком случае Форстер жаловался Макриди, что его обижают. "Диккенс, - говорил он, - так свято верит в непогрешимость своих суждений, так восхищен своими произведениями...", что он, Форстер, чувствует, что советовать ему бесполезно. Он добавил, что Диккенс глух к критике и его пристрастное отношение к своему творчеству будет постепенно расти, пока не станет неизлечимым злом. Еще через два года Форстер сообщил Макриди, что его прежней дружбе с Диккенсом скорей всего придет конец. И все-таки, хотя деспотизм Форстера, его любовь к трескучим фразам, его важничанье, конечно, не раз выводили Диккенса из себя, они остались друзьями до конца жизни. Правда, в тот период, когда Форстер женился, а Диккенс отыскал себе более подходящего приятеля, друзья все-таки сильно охладели друг к другу.
Утверждение, что Диккенс не желает читать критические статьи, посвященные его работам, касается еще одной важной стороны его натуры и дает основание внимательно отнестись к словам о том, что он упоен собственными произведениями. Чем более человек самонадеян, тем менее он тщеславен, ибо самонадеянность основывается на преувеличенном мнении о собственных достоинствах, а тщеславие - на высоком мнении других. Писатель, по-настоящему самонадеянный, может с улыбкой читать суровую критику своих произведений: ничье осуждение - ни близких ему людей, ни посторонних - не может повлиять на его отношение к своим работам. Тщеславный человек, напротив, извивается, как червь, под злым пером критики и проводит бессонные ночи, безуспешно пытаясь внушить себе, что на него нападают просто из зависти. Диккенс был тщеславен и жаждал признания. "Сидит во мне эдакий бес и очень больно дает о себе знать, - писал он в 1843 году. - Когда мне кажется, что на меня нападают несправедливо, во мне поднимается кипучая злоба. Впрочем, она отлично помогает мне перенести несправедливость, а потом я вообще все забываю. Когда я только начинал писать, я мучился, читая рецензии, и дал себе торжественный зарок впредь узнавать о них только от других". Он никогда не нарушал свое правило и только выиграл от этого. Да, он отдавал работе себя всего, уходил в нее без остатка, и его творения были для него более живыми, чем настоящие люди. И, конечно, нельзя сказать, что он недооценивал свои книги. Но он всегда понимал, что для других они не могут значить так же много, как для него, и поэтому отводил себе скромное место в литературе и редко говорил о своих произведениях. Если учесть то обожание, которым он был окружен с молодых лет и до самой смерти, то удивительно еще, как он вообще не потерял голову и сохранил способность трезво оценивать свои достижения. Если бы Форстер сказал, что Диккенс всегда питает самые нежные чувства к своим книгам, он был бы прав. Но, заявив Макриди, что Диккенс не желает считаться с мнением других, он умышленно солгал. Диккенс до конца своей жизни внимательно прислушивался к советам друзей и даже испортил конец "Больших надежд", вняв чужому совету. Да и десятки его писем к Форстеру свидетельствуют о том, что, пока они были близкими друзьями, он советовался с Форстером о своих произведениях и очень часто следовал его советам. Со свойственной ему прямотой и горячностью он восхищался Карлейлем и Теннисоном, Браунингом, Вашингтоном Ирвингом, Гансом Андерсеном и еще двумя-тремя писателями, не скрывая этого ни от них, ни от своих друзей. В этом преклонении перед некоторыми его современниками и полном отсутствии зависти к собратьям по перу кроется один из секретов диккенсовского обаяния.

Сила воли, пронизывавшая все его существо и направлявшая его талант, делала его в некоторых отношениях жестоким и эгоистичным. В нем чувствовался избалованный ребенок, хотя редко кого так мало баловали в детстве. "Я знаю, что во многих случаях бываю раздражителен и своеволен", - признавался он. Не приходится сомневаться, что свой собственный мир - тот, в котором он вращался, - он совершенно подчинил себе, навязывал ему свои желания, руководил и распоряжался им. И в его доме тоже все было подчинено его вкусам и прихотям. Обеды устраивались так, как велел он, комнаты обставлялись по его указаниям, увеселительные, да и вообще все поездки предпринимались по его воле. Его деспотическим наклонностям немало способствовала и жена, безответная и безответственная. Не будь он добр по природе, не будь он "благожелательным деспотом", их семейная жизнь стала бы на редкость тяжела. Ведь и так Кэт и детям часто приходилось одергивать себя, как будто они не у себя дома, а в гостях. Об опрятности и пунктуальности, например, нельзя было забыть ни на мгновенье. Глава семьи так следил за порядком, что его домашние, наверное, подскакивали, как ужаленные, при виде книжки, свалившейся со стола, и трепетали от ужаса, заслышав бой часов. "Ручаюсь, что я точен, как часы на здании Главного штаба", - хвастался Диккенс. Он являлся на свидания минута в минуту, а к столу в его доме садились вместе с первым ударом часов. Мебель в комнатах была расставлена так, как он того желал; место каждого стула, дивана, стола, каждой безделушки было определено с точностью до квадратного дюйма. "Следи, чтобы вещи стояли на своих местах. Терпеть не могу беспорядка", - подобные фразы то и дело встречаются в его письмах к Кэт. Стоило ему приехать в меблированный дом или гостиницу, как он все переставлял по-своему, даже гардероб и кровать. Все, разумеется, в полном порядке, - писал он на борту корабля. - Мои бритвенные принадлежности, несессер, щетки, книги и бумаги разложены с такой же аккуратностью, как если бы мы собрались прожить здесь месяц". Накануне возвращения из Америки его занимали "мысли о том, в порядке ли мои книги, где стоят столы, стулья и прочая обстановка".
Но, несмотря на его педантичность (отчасти возникшую как протест против беспорядка и сумбура, среди которых протекало его детство), у него была счастливая семья: он был привязан к детям, любил смотреть, как они веселятся, и вместе с ними сам резвился, как маленький. Летними вечерами он часто возил Кэт, Джорджину и двух своих дочерей в Хемпстед гулять по вересковой пустоши. Дамы собирали цветы, а он рассказывал им занятные истории. После прогулки компания закусывала в "Джек Строз Касл", а потом возвращалась домой. Люди почти всегда говорят, что любят детей; но часто за этим скрывается не что иное, как властолюбие. Нетрудно заметить, что любовью обычно пользуются лишь примерные дети, паиньки, она никак не распространяется на "дурных", трудных детей. Но любовь Диккенса к детям была прежде всего тоской о своем утраченном детстве и желанием вновь обрести его в кругу собственных детей. Когда он не читал им наставления о чистоплотности, опрятности и пунктуальности, он был им больше товарищем, чем отцом. А если кому-нибудь из них случалось заболеть, он ухаживал за ними лучше всякой няньки: не только часами просиживал у их кроваток, развлекая их сказками, но и знал, что нужно делать в минуты опасности. Он был практичен, бодр, энергичен, хладнокровен и полон сочувствия.
Желание управлять, руководить, добиваться своего вместе с жаждой цельной и все понимающей любви, которую он не мог найти, рождали в нем постоянное беспокойство, усугубленное творческим, пытливым умом и пламенным темпераментом. "Это невыразимое, томительное нечто", эта "смутная и ненасытная жажда чего-то неопределенного", казалось бы, более естественна для дельца или актера, чем для художника, знакомого и с раздумьем и с тайнами творчества. Но Диккенс ее испытал в большей мере, быть может, чем любой другой великий писатель. Бывали дни, когда он шагал по улицам и окрестностям Лондона как одержимый, шагал все быстрее, как будто, подобно Николасу Никльби, надеялся обогнать свои мысли. С годами этот высокий духовный накал становился все сильнее, толкая его на подвижнические поступки, которые раньше срока свели его в могилу. Эта постоянная душевная тревога чувствуется и в его работах: в навязчивых звуках шагов на улицах - от "Лавки древностей" до "Повести о двух городах": "Эти непрерывные шаги, то затихающие, то вновь приближающиеся, это извечное движение, поступь этих ног, непрерывно ступающих по грубым камням и шлифующих их до блеска". И - "Снова и снова гулким эхом отдавались в тупике звуки шагов; одни слышались под самыми окнами; другие как будто раздавались в комнате. Одни приближались, другие удалялись, одни внезапно обрывались, другие замирали постепенно где-то на дальних улицах. А вокруг - ни души".
С энергией и неугомонным, мятежным духом в нем сочеталась феноменальная способность к детальным и точным наблюдениям. Бывают на свете люди (к их числу относились Маколей, Оскар Уайльд, Сидней Уэбб*), обладающие поразительным даром: они могут читать книги, как бы фотографируя их в памяти. Они переворачивают страницу, и весь текст мгновенно отпечатывается в их мозгу: много лет спустя они могут повторить его слово в слово. Обладал этой способностью и Диккенс, но только он видел не страницы. У него был "нюх" на людей, места, события; каждая подробность так врезалась ему в память, что он мог мгновенно припомнить мимолетное выражение лица, случайную интонацию, неприметную деталь обстановки, неуловимую перемену атмосферы, оттенок настроения, тон беседы. Он мог бы затмить самого Босуэлла**, но предпочитал быть Босуэллом собственных впечатлений, регистрировать собственное мироощущение. Эти мысленные фотографические снимки обретали на бумаге форму слов, и сцены, написанные им, остаются непревзойденными по яркости и многообразию красок. Однако он и в работе был артистом-трансформатором и не мог долго выдерживать один и тот же характер, не повторяясь. На сцене или в короткой литературной зарисовке это забавно; в большом романе - утомительно. Правда, сразу же бросается в глаза одно исключение: старый Доррит, - но ведь это портрет отца, к которому он питал слабость с самого детства. В целом же комические герои Диккенса написаны живо, но поверхностно, совсем как театральные персонажи. Им несвойственны глубина и богатство красок, обаяние и значительность комических героев Шекспира и Скотта, но они более блистательны и гротескны, они как будто наэлектризованы энергией автора. Освещенные лучами его небывалой наблюдательности, они стоят как живые, и по сей день случается, что какого-нибудь странного и эксцентричного человека сразу же назовут "диккенсовским персонажем".
* (Уэбб Сидней (1859 - 1947) - английский общественный деятель, один из основателей реформистского фабианского общества, написавший вместе с женой, Беатрисой Уэбб, несколько книг по истории английского рабочего движения, в том числе "Промышленную демократию", переведенную В. И. Лениным в 1899 году.)
** (Босуэлл Джеймс (1740 - 1795) - биограф и близкий друг известного английского лингвиста, писателя и лексикографа Сэмюэла Джонсона. В течение 20 лет тщательно, с мельчайшими подробностями записывал все разговоры и поступки Джонсона.)
Сила и верность его наблюдений подтверждается еще и той сверхъестественной точностью, с которой он описывает случаи душевных заболеваний. Не имея никакого медицинского образования, создавая свои творения в эпоху, когда о неврозах фактически ничего еще не было известно, он, по мнению специалиста У. Рассела Брейна, описывал симптомы нервных болезней "не менее подробно и верно, чем некоторые выдающиеся клиницисты"*. Один из примеров тому - миссис Гарджери из "Больших надежд". Можно упомянуть и миссис Скьютон из "Домби и сына", страдающую церебральным артериосклерозом. "Диккенсовский отчет о течении ее болезни поражает не только точностью описаний отдельных симптомов, но более всего, пожалуй, тем искусством, с которым он изображает неумолимый ход болезни, подползающей к больному вначале крадучись, коварно, а затем катастрофически обостряющейся". Показав, как безошибочно описывает Диккенс случаи старческого слабоумия, гипомании, аграфии, афазии, паранойи, нарколепсии, параплегии и моторной атаксии (от одних этих названий героя нашей книги бросило бы в холодный пот), Рассел Брейн утверждает, что "в неврологии Диккенс так же силен, как в психиатрии".
* (Рассел Брейн, Чарльз Диккенс - психиатр. "The London Hospital Gazette", январь 1942 г. )
Преступникам, очевидно, повезло, что Диккенс не вздумал попытать свои силы на поприще следователя: он бы оставил без работы всех шерлоков холмсов.
Впрочем, зачем ему было отбивать хлеб у сыщиков? Ему вполне хватало и своих забот. Лето 1847 года он провел в Бродстерсе, работая над "Домби" и устраивая себе в виде отдыха такой моцион, который каждый обычный человек приравнял бы к каторжным работам. В конце года он поехал в Шотландию, чтобы выступить на открытии Литературного клуба в Глазго. В поезде у Кэт произошел выкидыш, и она не смогла присутствовать на торжестве. Диккенсу устроили грандиозный прием, ухаживали за ним, носились с ним, приглашали на ленчи и обеды. Он съездил в Эбботсфорд, побывал у Джеффри. Все ему очень понравилось, кроме памятника Скотту на Принсес-стрит: "Такое впечатление, как будто с готического собора сняли шпиль и воткнули в землю". В начале 1848 года в Брайтоне он почти дописал "Домби", окончательно завершив его в конце марта, уже на Девоншир-Террас, а потом помчался в Солсбери, остановился в "Белом олене" и целый день провел верхом на лошади вместе с Форстером, Личем и Лемоном: посетил "избушку" Хэзлитта* в Уинтерс-лоу, осмотрел Стоунхедж**, галопом промчался по Равнине, заехал в Мальборо*** и вернулся домой, чтобы отметить окончание романа традиционным праздничным обедом и начать репетиции "Виндзорских насмешниц". Летом он снова поехал в Бродстерс, где жена его чуть не погибла; она каталась в коляске, запряженной пони, и лошадки вдруг понесли: с Кэт непрестанно случалось если не одно несчастье, то другое, как будто ей это на роду было написано. Что же касается ее супруга, он устроил себе, как он говорил, "безделье" - иными словами, каждый день в половине восьмого утра купался, потом играл с детьми, принимал гостей, совершал двадцатимильные прогулки, ездил в Маргет**** и Рамсгет***** в театр, а в промежутках переодевался, потому что вечно был мокр до нитки - либо от дождя, либо от пота. В сентябре умерла его сестра Фанни, оставив детей и молодого мужа. У Фанни была чахотка, и Чарльз часами сидел у ее постели, вспоминая детство, Четем, Рочестер, Кобэмские леса. Смерть сестры глубоко потрясла его: оборвалась первая нить, связывавшая его с юностью. Быть может, именно это и определило тему его следующего большого произведения. Впрочем, о новом романе нечего было и думать, не закончив пятую и последнюю рождественскую повесть "Одержимый", из-за которой он снова стал "бродить по ночным, полным видений улицам". "Одержимый" был закончен в ноябре, в брайтонском отеле "Бедфорд", где автор "вот уже три дня подряд плакал над ним, но не горькими, а легкими, приятными слезами, как, надеюсь, будут плакать над ним и читатели".
* (Хэзлитт Уильям (1778 - 1830) - английский критик и очеркист.)
** (Стоунхедж ("Висячие камни" - сакс.) - остатки каменных сооружений древних кельтов недалеко от Солсбери, как предполагают, на месте совершения религиозных обрядов.)
*** (Мальборо - меловые холмы, расположенные по дороге из Лондона в курортный городок Бат.)
**** (Маргет - курортное место в графстве Кент на юго-восточном побережье Англии.)
***** (Рамсгет - курортный город на восточном побережье Англии.)
Теперь он был готов приступить к роману, ставшему самым популярным из всех его произведений и самым дорогим для него самого, - роману, который, несомненно, входит в число трех его лучших книг. Это вещь в основном автобиографическая, но, чтобы это не слишком бросалось в глаза, автор изменил место действия и множество других обстоятельств, среди которых протекала его юность. Героев, взятых из жизни, он изобразил такими, что едва ли кто-нибудь из них мог узнать себя. Решив, что его главный герой проведет свои детские годы где-нибудь в районе Ярмута (может быть, потому, что автору книги хотелось побывать близ Нориджа, где только что произошло сенсационное убийство), Диккенс в начале января 1849 года отправился туда вместе с Личем и Лемоном. В поезде на Бишоп Стортфорд они встретили попутчиков, ехавших в гости к приятелю, "недавно ставшему владельцем имения и винного погребка, полученных в наследство от дяди. На станции гостей встречал сам хозяин, и это было зрелище, равного которому я ничего в жизни не видывал. С первого взгляда мне стало ясно, что наследства покойного дядюшки хватит ненадолго, что не пройдет и пяти минут, как портвейн лишит хозяина последних проблесков рассудка, и сей джентльмен (не без посторонней помощи) проследует в спальню, предоставив гостям развлекаться по собственному усмотрению". По дороге в Лоустофт, недалеко от Ярмута, им попался указательный столб с надписью "Бландерстоун". Диккенс решил, что так и будет называться родная деревенька его героя. В настоящем Бландерстоуне он никогда не бывал, поэтому в романе он так же не похож на себя, как Чатем не похож на Ярмут. Удалось ли ему более правдиво передать атмосферу Ярмута, теперь судить нельзя, даже съездив в этот колоритный приморский городок. Ярмут показался Диккенсу "самым диковинным местечком на всем белом свете". Таким он его и изобразил, а с тех пор этот городок стал еще более диковинным. Друзья остановились в "Королевском отеле", и Диккенс немедленно потащил всех гулять в Лоустофт и обратно - всего за каких-нибудь двадцать с лишним миль! После прогулки Лемон, устав как собака, заснул, сидя у камина. "Сию минуту, кажется, человек был бодр и свеж, и вот он уже храпит, и как храпит! Чудеса!"


В феврале 1849 года у Диккенса появился шестой сынок. Счастливый отец повез Кэт в Брайтон и, поселившись в доме № 148 по Кингс-роуд, вовсю принялся за "Дэвида Копперфилда". Вместе с ними жили Лич с женой. Через несколько дней после их приезда хозяин их дома внезапно сошел с ума, а за ним и его дочь, и жильцам пришлось провести время довольно оживленно: "Слышали бы Вы только, как вопили и ругались эти двое; видели бы, как врач и сестра пулей вылетели из комнаты больного в коридор, как мы с Личем бросились спасать эскулапа, как нас тащили назад наши жены, как доктор медицины шлепнулся в обморок от страха и к нему на помощь подоспели еще три доктора медицины. И все это на фоне смирительных рубашек, среди друзей и прислуги, пытающихся унять больных. Не хватало только миссис Гэмп! Вы, конечно, сказали бы, что все это достойно меня и вполне в моем духе". Они переехали в отель "Бедфорд", где Диккенс с удвоенным жаром набросился на "Дэвида". Название для своего романа он нашел не сразу, отвергнув, по зрелом размышлении, "Признания Копперфилда", "Копперфилдскую летопись", "Мир Копперфилда-младшего", "Последнюю волю и завещание мистера Дэвида Копперфилда", "Все о Копперфилде" и многие другие. Остановился он в конце концов на "Жизни Дэвида Копперфилда, рассказанной им самим". Он был так занят, что его дочь Мэми с беспокойством спросила, приедет ли он домой в день ее рождения. "Будь я даже связан обязательством исключительной важности, - успокоил он ее, - я пожертвовал бы всеми делами ради удовольствия отпраздновать у себя дома, среди детей, день, который принес мне такую милую, такую хорошую дочку". Весну он провел в Лондоне, устраивая один званый обед за другим, и сам то и дело обедал в гостях и работал, не зная устали.

Первый выпуск "Дэвида Копперфилда" появился в мае 1849 года, последний - в ноябре 1850-го. После успеха "Домби" материальное положение Диккенса настолько упрочилось, что вопрос о деньгах больше не тревожил его. Однако "Копперфилда" раскупали хуже, чем его предшественника, что на время повергло Диккенса в уныние. Да и писать оказалось труднее, чем он предполагал: "С "Копперфилдом" что-то не клеится. За вчера и сегодня не сделал ничего. Знаю, чего хочу, но все-таки двигаюсь вперед с трудом и скрипом, как почтовая колымага". А тут еще одна неприятность: он упал и сильно ушибся, отчего роман тоже, конечно, не выиграл. Поставив себе банки и украсившись волдырями, он отправился в Бродстерс, поселился в "Альбионе" и стал ждать, не поможет ли ему морской воздух. Воздух действительно помог, но вскоре его снова расстроило одно незначительное событие.
Заглянув в лавчонку за бумагой, он услышал, как какая-то женщина просит дать ей последний выпуск "Дэвида Копперфилда". "Нет, этот я уже читала, - сказала она, когда ей протянули книжку. - Мне мужей следующий". - "Следующий, - заметил продавец, - выйдет в конце месяца". В конце месяца! И ни слова еще не написано! Вот когда Диккенсу, по его собственному признанию, впервые в жизни стало страшно...
Нужно было найти местечко поспокойнее Бродстерса, и, дописав выпуск, которого с таким нетерпением дожидалась покупательница, Диккенс срочно предпринял поездку по острову Уайт и вскоре нашел недалеко от Бончерча "прелестное местечко, лучше которого я еще ничего не видел ни дома, ни за границей". Это было имение Уинтербурн, принадлежавшее его другу, преподобному Джемсу Уайту, который жил поблизости. Диккенс тотчас же снял его, договорился, что плотник устроит у водопадика, находившегося на участке, "вечный" душ, и помчался домой за своим семейством. В Райде ему встретился Теккерей. "Бегу сломя голову вдоль пирса, - писал Теккерей миссис Брукфилд 24 июля. - И вдруг мне навстречу великий Диккенс со своей женою, своими детьми, своею мисс Хогарт, и у всех до неприличия грубый, вульгарный и довольный вид". К ним снова приехали супруги Лич, и на первых порах все шло как нельзя лучше. Все чудесно проводили время: устраивали пикники, гуляли, лазили по холмам, плавали, ездили верхом, устраивали всевозможные развлечения, затевали разные игры, показывали фокусы, а Диккенс каждый день еще и работал до двух часов. Но вот прошло несколько недель, и всех одолела лень и сонливость. Даже сам Диккенс едва мог заставить себя пройти десять миль и с утра до вечера чувствовал "непреодолимую слезливость". Силы покидали его. Делать ничего не хотелось. "Жизнь утратила решительно всякий смысл". Причесываясь по утрам, он чувствовал такое утомление, что был вынужден проделывать эту процедуру сидя. Читать он не мог. Он становился развалиной - физически и духовно. Он понял, что если останется здесь на целый год, ему грозит смерть. В конце сентября во время купанья Лича сбило с ног большой волной, и он слег с сотрясением мозга. Диккенс долгие часы проводил у его постели. Поняв, что его друг не поправится, если не заснет, он попросил у миссис Лич разрешения загипнотизировать ее мужа и, получив согласие на это, взялся за дело. "После очень утомительного сеанса я усыпил его на час тридцать пять минут". После этого Личу сразу стало лучше, и вскоре он совсем выздоровел. Как только опасность миновала, Диккенс уехал из Бончерча в Бродстерс, где свежий живительный воздух быстро вернул ему бодрость духа, здоровье, крепкий сон и страсть к далеким прогулкам.
Возвратившись домой, он присутствовал в ноябре на публичной казни Маннингов и пришел в ужас: равнодушная, грубая, жестокая толпа, шуточки и брань пьяного палача - что за мерзость! Он отправил два письма в "Таймс", рассказав об этом тошнотворном зрелище и решительно требуя, чтобы публичные экзекуции прекратились. "Ум способен дать человеку несравненно более сильные впечатления, чем глаза. Мне кажется даже, что, увидев вещь, нам труднее оценить ее по достоинству". Эти слова Филдинга Диккенс приводит в одном из писем. Началась широкая дискуссия, и Диккенс едва не утонул в потоке корреспонденции. Его протест не прошел бесследно, и ему довелось своими глазами увидеть, как этим позорным зрелищам был положен конец.
В конце того же месяца он и Кэт побывали у Уотсонов в Рокингемском замке. Вместе с ними гостила горячая поклонница Диккенса по имени Мэри Бойл. У Мэри было незаурядное сценическое дарование, и Диккенс сыграл с нею несколько сценок из "Школы злословия", а также эпизод с сумасшедшим из "Николаса Никльби". После этого Мэри Бойл стала его другом на всю жизнь. Как всегда после волнующих событий подобного рода, у Диккенса наступила реакция, и он, выражаясь его собственными словами, "стал сущим несчастьем для чад и домочадцев". Впрочем, это скоро прошло.
Весь 1850 год был занят не только "Дэвидом Копперфилдом", но и еще одним делом, о котором мы более подробно поговорим в следующей главе. Любому другому этого за глаза хватило бы, чтобы чувствовать себя занятым по горло. Но Диккенсу ничто не могло помешать пуститься по белу свету, когда ему не сиделось на месте. Так в середине 1850 года он прибыл в парижский отель "Виндзор", заскучал, "осматривая то, что меня вовсе не интересует", и потащил Маклиза в Морг, где его другу стало "так дурно, что он, к моему полному замешательству, опустился на какие-то ступеньки и просидел так минут десять, подпершись ладонью". Август, сентябрь и октябрь Диккенс провел в бродстерском Форт-Хаусе, заканчивая "Копперфилда" и ежедневно вышагивая пешком многие мили, принимая гостей и чувствуя, что ему становится все труднее выносить общество своего будущего биографа. В один прекрасный день он вместе со своим сыном Чарли, Форстером и еще двумя гостями "прошелся" до Ричборского дворца и обратно. "Форстер был в отличнейшем расположении духа, но разглагольствовал, по-моему, вдвое громче, чем всегда (!). Право же, он совсем выбил меня из колеи, и потом, разгоряченный к тому же прогулкой, я никакими силами не мог заснуть. Наконец, махнув на сон рукой, я встал и бродил вокруг дома часов до 5 утра. Зашел к Джорджине и стащил ее с кровати, чтобы она составила мне компанию... А сегодня в половине восьмого утра я уже успел вынырнуть из постели и нырнуть в море". Иногда по вечерам играли в "vingt-et-un"*. Впрочем, Диккенс никогда особенно не увлекался карточной игрой. Кроме того, он был так поглощен своей книгой, что то и дело, забыв об игре, вскакивал из-за стола и поправлял картину на стене или ставил на место какой-нибудь стул.
* (Двадцать одно очко (фр.). )
Работая над "Дэвидом", он вновь переживал свое детство, и ему часто стоило большого труда отобрать среди нахлынувших на него воспоминаний лишь те, которые были действительно необходимы для сюжета. Прошлое, всегда живое и яркое, часто вставало перед ним во сне. "Мне обычно снятся события двадцатилетней давности, - писал он в феврале 1851 года. - Иногда в них вплетаются какие-то факты моей нынешней жизни, но как-то бессвязно, между тем как все, что было двадцать лет назад, я вижу очень четко. Я уже четырнадцать лет женат, имею десять человек детей, но не помню, чтобы хоть однажды видел себя во сне обремененным обязанностями отца и супруга или окруженным моими близкими". "Дэвид Копперфилд" воскресил его детские годы, и поэтому, как он заметил незадолго до смерти, он любил эту книгу "больше всех других. Подобно многим любящим родителям, я в глубине души знаю, что у меня есть любимое дитя, и зовут его - Дэвид Копперфилд". На этот раз ему понадобилось немало времени, чтобы "пустить машину в ход", но, наконец, он вошел во вкус, и слова так и полились из-под его пера. Пригодился для романа и отрывок автобиографии, написанный им несколько лет назад. О том, как подвигалась работа, можно проследить по отдельным фразам его писем.
6 июня 1849 года: "Ну, слава тебе, господи, чувствую, что роман пойдет. Что случится в этом месяце, уже обдумал. На два ближайших месяца план тоже готов".
17 ноября: "Я весь ушел в работу. Чудесно! Ничто не задевает и не тревожит".
20 ноября: "После двух дней очень трудной работы сделал "Копперфилда". Выпуск, по-моему, превосходен! Надеюсь, что первое "грехопадение" моего героя покажется читателю кусочком курьезной правды, достойным внимания".
23 января 1850 года: "Я очень надеюсь, что из-за малютки Эмили меня будут помнить долгие годы".
20 февраля: "Боюсь, что не смогу к Вам присоединиться: "Копперфилд" идет полным ходом и завтра должен быть закончен. Изо всех сил постараюсь успеть. В этом выпуске есть любовная история, по-моему, прелестная и смешная".
7 мая: "Все еще не решил, как быть с Дорой, но сегодня должен решить".
13 августа: "Работа идет вполне прилично, несмотря на домашние осложнения. Надеюсь, что выпуск будет отличный. Чувствую эту вещь всем своим существом до последней мелочи". (Под домашними осложнениями имеется в виду Кэт, которая 16 августа преподнесла ему третью дочь. В честь героини "Дэвида Копперфилда" новорожденную назвали Дорой. Через год она умерла.)
20 августа: "Три дня работаю как проклятый, а мне еще предстоит убить Дору. Если повезет, может быть, удастся сделать это завтра".
26 августа (жене): "Вчера читал новый выпуск Стоуну и Джорджи и привел обоих (особенно Стоуна) в ужасающее волнение. Надеюсь, и ты не осталась равнодушной". (Речь идет о выпуске, где описана смерть Доры.)
15 сентября: "Эти два дня работал как каторжный; вчера - шесть часов подряд, сегодня - шесть с половиной. А все виновата глава о Хэме и Стирфорсе, совершенно измучившая меня. Я уж чуть было не сложил руки!"
17 сентября: "Опасно заболел "Копперфилдом" - сейчас в работе самое сильное место книги, и я смело могу брать заказы на изготовление семидесятичетырехфунтовых пушек... Теперь я все могу".
24 сентября: "После "Копперфилда" понемногу прихожу в более или менее нормальное состояние - на время, конечно. Готовлюсь окунуться в театральные дела. В очередном выпуске "Копперфилда" кое-что, на мой взгляд, удалось лучше, чем когда бы то ни было. Так, между прочим, всегда: поверю в удачу всей душой, а в результате - пожалуйста: пишу так, что глазом не разобрать и умом не понять".
21 октября: "До берега осталось каких-нибудь три страницы. А у меня, как всегда, двойственное чувство: и радостно и печально. Ах, милый мой Форстер, вздумай я Вам рассказать хотя бы половину того, что заставил меня сегодня пережить Копперфилд, и как странно, даже для Вас, прозвучали бы мои откровения! Я как будто посылаю в Страну Призраков частицу самого себя".
23 октября: "Только что кончил "Копперфилда" и не знаю, смеяться мне или плакать... Думаю уехать куда-нибудь на денек-другой - скорее всего, в Рочестер, где жил мальчиком, - и выбросить из головы все, что написано за эти две недели..."
Он работал над "Копперфилдом" и в Брайтоне, и в Бончерче, и в Лондоне, но львиная доля работы была проделана в Бродстерсе, которому он отдавал безусловное предпочтение перед всеми маленькими приморскими курортами. Здесь, конечно, жила и его Бетси Тротувуд, хотя в романе и сказано, что ее дом находится в Дувре. Диккенс на все лады расхваливает Бродстерс в своих письмах: "Бродстерс - очарование. Зеленеют хлеба, заливаются жаворонки, сверкает море, и все это делается как нельзя лучше!" Там он, пожалуй, провел больше счастливых дней, чем где-либо еще. Душевный покой, относительный, конечно, которым он здесь наслаждался, чувствуется и в "Копперфилде" - самом гармоничном из его произведений. Это его самая "личная" книга, гораздо более правдивая, чем большинство так называемых автобиографий. Но в одном отношении она оказалась чересчур правдивой. Некая дама по имени миссис Хилл узнала себя в мисс Моучер, и так как нрав у этой мисс злобный, а вид отталкивающий, то миссис Хилл сочла нужным пожаловаться автору. Диккенс ответил, что герои его произведений - фигуры собирательные. Некоторые их качества, несомненно, можно найти у миссис Хилл, другие - еще у кого-то. Впрочем, он признает, что был к ней несправедлив и поэтому откажется от своего намерения изобразить мисс Моучер исчадием ада и сделает ее весьма достойной особой, с которой другие члены общества могут брать пример. Сказано - сделано! Успокоенная миссис Хилл, очевидно, с удовольствием следила за тем, как шагает из выпуска в выпуск переродившаяся духовно, но - увы! - по-прежнему уродливая физически мисс Моучер.
Мы не знаем, сумел ли мистер Джон Диккенс, отец писателя, уловить известное сходство мистера Микобера с самим собою. Но нет сомнений, что именно он послужил прообразом этого героя. Достаточно обратить внимание на стиль нескольких его фраз, которые его сын приводит в своих письмах: "Лишиться, в известной мере, связанных с этим преимуществ, в чем бы они ни заключались, являющихся результатом его врачебного искусства, каким бы оно ни было, и профессионального характера оказываемых им услуг, если их можно рассматривать как таковые..."
"...Само собой очевидно для любого среднеинтеллигентного человека - да будет нам позволено воспользоваться этим термином..."
"И я должен признаться, что его долговечность представляется мне (по меньшей мере) чрезвычайно сомнительной".
"Всевышний был бы вовсе не тем, за кого я имею все основания его принимать, если бы проявил хотя бы малейшую склонность к обществу твоих родственников".
Конечно, это он устами Микобера говорит своей жене: "Душенька, твой папочка по-своему был превосходным человеком, и боже меня упаси умалять его достоинства. Что там ни говори, а нам уж, наверное, никогда... я хочу сказать - нам никогда больше не встретить человека, на котором - в его-то годы - так красиво сидели бы гамаши и который смог бы разбирать такой мелкий шрифт без очков".
Что касается миссис Микобер, то она кое в чем напоминает матушку Диккенса. Есть в романе и другие персонажи, прообразы которых известны: например, Стирфорс и Крикль. О миссис Гэммидж и говорить нечего: почти в каждой семье можно найти подобную особу, сетующую на свою горькую участь. Агнес - это все то же идеальное существо, каким Диккенсу представлялась Мэри Хогарт: бесплотная женщина, совершенство, встречающееся разве что в воображении, но никак не наяву. Ей противостоит еще одна из его "неприкасаемых", отчасти обязанная своим появлением современной автору мелодраме и отчасти викторианскому пониманию того, что "прилично" для женщины (Марта - женщина "неприличная"), но главным образом порожденная чувством вины перед такими, как она. То, что одна эпоха свято чтит как непреложную истину, другой эпохе кажется ложью. Ни одна пропасть так не отделяет нас от викторианцев, как разный подход к соблюдению женщиной целомудрия до замужества и верности после него. Распущенность мужчин и безграничное лицемерие - естественное следствие подобной установки - в расчет не принимались. Главы "Дэвида Копперфилда", посвященные этой теме, были бы просто тягостны, не будь они так комичны. Впрочем, читатель, не видящий в них ничего забавного, может расстаться с ними так же, как расстается Марта со своими добродетельными друзьями: "Глухой стон послышался из-под шали, все тот же тоскливый, мучительный стон - и она ушла".
Первые четырнадцать глав - самое лучшее, что когда-либо написано о детстве и юности. Правда, после сцены, в которой Бетси Тротвуд дает отпор Мэрдстонам, повествование развивается несколько вяло, и новая живительная струя вливается в него лишь с появлением Доры. Не считая чисто комических или гротескных героинь, Дора - самый удачный из всех женских портретов Диккенса. Как видно, Мария Биднелл сумела проникнуть в самую кровь и плоть его: Дора - это и есть Мария Биднелл, лукавая и пленительная. Никто лучше Диккенса не сумел еще рассказать о юношеской любви, с ее безрассудствами, ее неистовыми порывами, радостями, мучениями, восторгами и унижениями, подозрениями и наивной верой. Зная, какой он был щеголь, мы можем вполне поверить, что нижеследующий отрывок нисколько не грешит против истины: "В первую же неделю я приобрел четыре роскошных жилета... взял себе за правило появляться на улице в бледно-желтых лайковых перчатках и подготовил почву для всех своих настоящих и будущих мозолей. Если бы только можно было раздобыть откуда-нибудь ботинки, которые я носил в ту пору, и сравнить их с размером моей ноги, они бы послужили самым трогательным доказательством того, что творилось тогда в моем сердце".
И хотя Дэвида Копперфилда отнюдь нельзя считать копией Чарльза Диккенса, он все-таки наделен некоторыми главными качествами автора книги: "Я, кажется, ни на что особенно не смотрел, но видел все".
"Я никогда бы не смог ничего добиться в жизни без тех привычек, которые выработал для себя в те дни: аккуратности, пунктуальности, прилежания".
"За что бы я в жизни ни взялся, я все старался сделать хорошо... Я отдавался целиком всему, чему бы себя ни посвятил... Как к малым, так и к большим задачам я всегда подходил основательно и серьезно. Я никогда не верил, что можно добиться чего-то только способностями - природными или благоприобретенными, не подкрепив их другими качествами: упорством, скромностью, трудолюбием".
"Никогда не делай кое-как то, чему можешь отдать все свои силы; никогда не позволяй себе пренебрежительно относиться к делу, каким бы оно ни было, - вот в чем, как я теперь вижу, заключалось мое золотое правило".
Подобно автору книги, Дэвид одержим духом беспокойства и во многом повторяет жизненный путь Диккенса. Фабрика ваксы, Маршалси, первая любовь, Докторс-Коммонс, репортерские скамьи парламента, первые книги, успех. Есть в характере Дэвида и актерские черты: узнав о том, что умерла его мать, он идет во время занятий на школьную площадку для игр и прохаживается по ней. "Видя, как товарищи, направляясь на уроки, глядят на меня из окна, я почувствовал, что я человек особенный, не такой, как другие, и придал своему лицу еще более скорбное выражение и замедлил шаг". И, наконец, Дэвид, подобно Диккенсу, разочарован своей женитьбой. Кэт, должно быть, призадумалась, читая эти строки:
"Порою - правда, ненадолго - я все-таки чувствовал, что в жене мне недостает советчицы, что ей не хватает твердости и силы характера, чтобы стать мне поддержкой и примером, заполнить ту пустоту, которую я смутно чувствовал вокруг себя".
"Так вот и получилось, что все труды и заботы нашей жизни легли на меня, и облегчить мою ношу было некому".
"Ни одно неравенство так не страшно в браке, как несходство склонностей и убеждений".
"Но я знал, что было бы лучше, если б жена могла мне больше помогать, делить со мною мысли, которые мне некому было поведать. Знал я и то, что так могло бы быть".
Автобиографический роман Диккенса - самый популярный из шедевров английской литературы. И хотя не лишен, быть может, основания довод, что "Том Джонс", "Пуритане", "Ярмарка тщеславия" и "Крошка Доррит" - произведения более значительные, немногие решились бы оспаривать тот факт, что "Дэвид Копперфилд" находится в первом десятке великих английских романов. В июне 1850 года, собираясь на лето в Бродстерс, Диккенс писал Макриди: "Верчусь как белка в колесе: то "Копперфилд", то "Домашнее чтение". Надеюсь вскоре поехать на побережье к старому символу Вечности, который я так люблю, и под его нестройную музыку покончить с романом. Дай бог, чтобы книга получилась хорошей; я очень надеюсь на это. Чтобы читали ее Ваши дети, и дети Ваших детей, и их дети". Мы знаем, что желание его осуществилось.